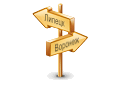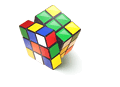Пример психологического случая
Мистер T. Неженатый мужчина тридцати с лишним лет, работающий в сфере социальной реабилитации, обратился за консультацией по поводу трудностей во взаимоотношениях с женщинами и с клиентами на работе, в связи с крайне ограниченной способностью переживать эмпатию. Он жаловался также на общее чувство неудовлетворенности в форме скуки и раздражения и сомневался в смысле жизни. У него было нарциссическое расстройство личности без выраженно пограничных или антисоциальных черт.
Поначалу его отношение к психоанализу и свободным ассоциациям было крайне амбивалентным. С одной стороны, он считал меня самым хорошим психоаналитиком среди сравнительно небольшого профессионального социума, где я работал; с другой стороны, он полагал, что психоанализ — достаточно старомодная техника прошлого. Он относился к моей, в его восприятии, ригидной психоаналитической позиции как к чемуто помпезному и скучному. Его собственные теоретический подход и образование были почти диаметрально противоположны психодинамической точке зрения. На ранних стадиях психоанализа мистера T. беспокоило, интересно ли мне то, что он говорит; он подозревал меня в полном равнодушии и ему казалось, что любое движение, которое я делал, пока он лежал на кушетке, не имело никакого отношения к нему (так, он предполагал, что я навожу порядок в своей чековой книжке). Он сильно сердился, когда замечал, что я забыл какоето имя или событие, упоминавшиеся им на предыдущих сеансах.
Свободные ассоциации мистера T. вращались вокруг его последней партнерши. Сначала она казалась ему очень привлекательной и желанной, но затем он обнаружил в ней недостатки. Ему стало казаться, что она получает от него гораздо больше, чем он от нее, и ему захотелось разорвать эти взаимоотношения. В этом контексте его общее подозрительное отношение к женщинам и страх, что женщины его эксплуатируют, стали основными темами свободных ассоциаций. Этот страх можно было связать с отношениями мистера T. с матерью, занимавшей видное социальное положение в провинциальном обществе и командовавшей его отцом. Пациент воспринимал ее как властную женщину, которая любит вмешиваться в чужие дела, нечестную и манипулирующую. Мистер T. описывал отца как человека, погруженного в работу, замкнутого в себе и недоступного в течение всего его детства.
За два первых года психоанализа взаимосвязь его отношений к его девушке, к матери и ко мне становилась все более очевидной. Я изображаю ложный интерес к пациенту, а на самом деле использую его ради денег или делаю вид, что слушаю его, а сам обдумываю свои дела. Девушка притворяется, что любит его, а на самом деле лишь эксплуатирует — в социальном и финансовом смысле. Постепенно выяснилось, что сам мистер T. обращался с ней как властный эксплуататор: он считал, что она должна угадывать его настроения и удовлетворять его потребности в то время, как сам он не обращал внимания на ее состояния. Но когда я пытался тактично показать ему его собственный вклад в их сложности, мистер T. со злостью обвинял меня в том, что я хочу вызвать в нем чувство вины и что я веду себя по отношению к нему, как его мать. Я казался ему коварным человеком, любящим вмешиваться в чужие дела, командовать и вызывать у других чувство вины, как его мать.
Стало очевидным, что в переносе я играл роль его матери: либо я равнодушно молчал, лишь делая вид, что он мне интересен, либо мне хотелось навязать ему мои взгляды с помощью чувства вины, и я получал садистическую радость от такого контроля. Попытки показать ему, что он приписывает мне свое собственное неприемлемое поведение по отношению к женщинам, были бесплодными. Он разорвал отношения со своей девушкой и через несколько месяцев появилась новая женщина, взаимоотношения с которой быстро превратились в точную копию предыдущих.
В течение следующего года одни и те же темы, казалось, бесконечно повторялись в его свободных ассоциациях и в его отношении ко мне. Постепенно я пришел к заключению, что воспроизведение взаимоотношений с матерью в переносе и в поведении с женщинами служит целям защиты так же, как и инстинктам. Он как бы получал тайное удовлетворение (хотя бы отчасти) своей неосознанной потребности в садистическом контроле со стороны женщин, с которыми встречался. Кроме того, он проецировал на женщин образ своей матери, и это поддерживало рационализацию его нападений на них.
На третьем году психоанализа я понял, что отношения мистера T. ко мне в переносе в основном остаются неизменными с самого начала терапии. Подобным образом его воспоминания о переживаниях детства и отношениях с матерью (на основе которых можно было объяснить его поведение с женщинами и его отношение ко мне) никак не изменили убеждений, относительно своего настоящего или прошлого, которых он сознательно держался. Я также заметил, что в его постоянном подозрительном отношении ко мне и в его злости легко зарождаются фантазии о прекращении терапии. Хотя на самом деле он не прекращал приходить ко мне, у меня не было той уверенности относительно его намерения продолжать психоанализ, какая есть по отношению к другим пациентам; хотя они могут иногда пропустить назначенный сеанс, отыгрывая вовне негативные реакции переноса, я всетаки сохраняю уверенность, что они вернутся. С этим же человеком я ощущал, что наши взаимоотношения хрупки и явно не углубляются.
Я мог также в течение нескольких месяцев наблюдать, как мистер T. достаточно охотно слушал мои интерпретации, но затем либо сразу соглашался с ними, как бы предполагая, что он это знал раньше, или сразу не соглашался, или же пытался со мной спорить. Интерпретации, которые не принимал сразу, он просто оставлял без внимания. Иногда же он, казалось бы, очень интересовался интерпретациями и пытался пользоваться ими, консультируя своих клиентов, но я никогда не видел, чтобы во время наших сеансов он попытался воспользоваться ими для углубления понимания самого себя. Иначе говоря, его реакции по отношению ко мне отражали хроническую неспособность зависеть от меня для углубления психологического исследования. Вместо этого он вытаскивал из меня интерпретации и хотел пользоваться ими для своих целей. Описания Абрахама (Abraham, 1919), Розенфельда (Rosenfeld, 1964) и мои собственные (1975), относящиеся к нарциссическому переносу, явно подходят к данному случаю.
Когда я попытался проинтерпретировать эту динамику и с ним вместе исследовать функции его установки, оказалось, что мистер T. защищал себя от интенсивного чувства зависти ко мне, и это заставляло его использовать все, по его мнению, новое и хорошее, что от меня исходило, для своих целей. Эта зависть и защита от нее отражали как доэдиповы, так и эдиповы конфликты. Постепенно ему стало ясно, что, хотя он таким образом может защитить себя от зависти ко мне, он отказывался использовать мои комментарии для самопознания. Это открытие вернуло нас к его изначально презрительному и скептическому отношению к психоанализу, противоположному его собственным убеждениям, которые он применял в своей работе с клиентами.
Через какоето время мистер T. начал понимать, что он разрывается между различными точками зрения на меня: я — инструмент, который может помочь ему разрешить его затруднения с женщинами, следовательно, тот, кому, он изза этого завидует невыносимой завистью; и одновременно я — человек, которому совсем не в чем завидовать, подкрепляющий его убеждение, что от психоанализа ждать нечего. Анализ его установки по отношению к моим интерпретациям и, косвенным образом, анализ его резко противоречивых и постоянно колеблющихся установок по отношению ко мне усиливали в нем беспокойство и чувство одиночества во время сеансов. Он ощущал, что, даже если я прав, я делаю это, чтобы добиться торжества над ним и показать себя; поэтому он чувствовал себя обессиленным, потерянным и отвергнутым мною.
В этом контексте на четвертом году психоанализа произошел следующий довольно длительный эпизод. Мистер T. начал с особым вниманием относиться ко всем моим — с его точки зрения — недостаткам, как на сеансах, так и вне их. За моей спиной он создал целую сеть, по которой получал информацию обо мне, состоявшую из различных групп небольшого города, в котором мы жили. В конце концов он установил контакты с группой недовольных членов местного психиатрического социума, которые плохо относились к моей организации и к той роли, которую я в ней играл. Мистер T. сошелся с одним человеком, относившимся ко мне особенно враждебно, и тот снабжал его информацией, которая, по мнению пациента, могла бы мне повредить. Взамен мой пациент рассказывал тому человеку о моих ошибках как аналитика. Когда преувеличенные слухи обо всем вернулись к пациенту через третье лицо, он обеспокоился и во всем мне “исповедовался”. Сам тот факт, что несколько недель он мог скрывать эти вещи, говорит о непрочности наших терапевтических взаимоотношений, об ограниченности свободных ассоциаций пациента и об искажении психоаналитического сеттинга.
Исповедь мистера T. сначала вызвала у меня бурную эмоциональную реакцию: я чувствовал боль и злость, я ощущал свою беспомощность перед контролем со стороны пациента. Лишь через несколько часов я смог осознать, что в данный момент активизировались взаимоотношения мистера T. с его матерью, но роли переменились: теперь он идентифицировался с агрессором, а я в контрпереносе идентифицировался с пациентом как с жертвой манипуляции матери. Я также понял, как сильно пациент боится, что я могу отомстить ему или покинуть его и что этот страх смешан в нем с чувством вины. После того как он рассказал о своих фантазиях, что я мщу и бросаю его, — он спонтанно добавил, что сам бы так поступил в подобной ситуации, — я сказал, что его поведение, как он его описывает, напоминает отношение к нему его матери. На этот раз он мог принять мою интерпретацию. Я также сказал, что, поскольку он понимает, что его любопытство к моей личности содержит элементы агрессии, нет необходимости отрицать это чувство. Мистер T. признался, что его возбуждали сплетни, которыми он обменивался с враждебной группой. Он понимал, что предает наш с ним уговор о честности в общении и рискует прервать взаимоотношения со мною, но также ощущал чувство свободы и силы, которое вызывало восторг и даже опьяняло. Фактически, добавил он, теперь ему уже не страшно, что я выставлю его, поскольку он уже пережил нечто “хорошее”.
Дальнейшее исследование помогло ему понять, что чувство удовлетворения, силы и восторга происходили из ощущения, что он может контролировать меня и мною манипулировать, а я же сильно ограничен своей аналитической установкой; он никогда раньше не видел наши взаимоотношения с такой точки зрения. Это, в свою очередь, заставило нас углубиться в исследование его текущих взаимоотношений со мной, в которых он осмелился идентифицироваться со своей матерью, ощущая глубокое чувство могущества и удовлетворения при выражении своей агрессии, которую он боялся признать в себе, в то время как я оказался в его роли — в роли беспомощного человека, находящегося во власти пациента, подобно тому, как тот сам находился во власти своей матери. Эта агрессия включала в себя оральную зависть и анальносадистические импульсы, смешанные с импульсами кастрации (последние преобладали на поздних этапах анализа).
Впервые мистер T. смог пережить опыт идентификации с образом своей матери, который он все эти годы проецировал. В то же время он соприкоснулся с агрессивным компонентом своей ревнивой зависти ко мне. В течение последующих нескольких месяцев стало возможным показать ему, что его образ себя как беспомощного, пустого, преследуемого и одинокого человека, окруженного эксплуатирующими женщинами, был защитой от другого Яобраза, в котором он идентифицировался со своей властной матерью и получал садистическую радость от взаимоотношений с женщинами и со мной как со своими бессильными рабами (или как с рабами своей матери). В результате произошла интеграция ранее диссоциированной и вытесненной садистичной Ярепрезентации, основанной на идентификации с матерью, и пустым, бессильным Я, которое было защитой от первого. Вследствие и в контексте интеграции этих противоречивых аффектов и Ярепрезентаций мистер T. стал способен глубже исследовать взаимоотношения со мной и начал лучше понимать свое отношение к женщинам и к матери. Кроме того, в переносе стал появляться новый образ меня: я стал для него терпимым и теплым отцом, относительно которого пациент испытывал чувства зависимости и сексуальные желания, что явилось первым видоизменением основного переноса и его переживаний, касающихся прошлого.
Я хотел бы подчеркнуть некоторые технические стороны этого анализа. Вопервых, ранняя активизация сопротивления переноса (злость мистера T. и подозрительное отношение к моей заинтересованности) повторяла его взаимоотношения с женщинами. Поэтому я мог сразу соединить анализ характера с основными темами свободных ассоциаций (отношения с женщинами). Вовторых, частичная природа его Ярепрезентаций, связанная с этим неспособность углубить эмоциональные взаимоотношения и со мной, и с женщинами и соответствующая всему этому ригидная версия прошлого оказались устойчивой глобальной защитой, препятствующей прогрессу терапии. Внимание к установке пациента относительно моих интерпретаций дало мне возможность интерпретировать самый глобальный аспект его нарциссической структуры личности — его идентификацию с садистической материнской репрезентацией — как ядро его патологического грандиозного Я. Ее проработка в переносе была необходима для дальнейшего развития психоаналитического процесса.
Надо подчеркнуть, что возбуждение и садистическое поведение по отношению ко мне, связанные с диссоциированными Ярепрезентациями, во взаимоотношениях мистера T. с различными женщинами были сознательным переживанием, проявлявшимся только в капризах и длительных эмоциональных бурях, которые были “оправданы”, поскольку на женщин он интенсивно проецировал образ матери. Таким образом, эта Ярепрезентация была осознанной, но диссоциированной от переживания себя как одинокого и приниженного человека. Мистер T. использовал рационализацию и защищался от таких чувств посредством примитивных механизмов защиты, в частности посредством проективной идентификации. Проявление этих паттернов грандиозности и садизма в переносе и его интеграция — посредством интерпретации — с противоположными Ярепрезентациями атакуемого и эксплуатируемого ребенка явились успешным завершением систематического анализа соответствующего сопротивления характера, который проявился прежде всего по отношению к моим интерпретациям. Задним числом пациент мог понять, что, отвергая мои интерпретации и принимая их, он играл и роль своей матери, и роль самого себя как фрустрированного ребенка.
Такой ход событий иллюстрирует также одно любопытное отличие нарциссического грандиозного Я от диссоциированных или вытесненных нормальных Ярепрезентаций, против которых грандиозное Я служит защитой. В основной своей Яконцепции пациент представлял себя несправедливо обиженным ребенком, который должен эти обиды компенсировать. Такая концепция стояла за “праведной” и хорошо рационализированной эксплуатацией женщин и за презрительным невниманием ко всему, что могло оживить его зависть. Садистический же, злобный, но вызывающий восторг аспект Я, который вылез наружу в переносе, был также частью нормальной, напитанной агрессией Ярепрезентации, которая, как это ни странно, была более аутентичной и глубокой в отношениях к объектам, чем защитная поверхностная Ярепрезентация. На глубоком уровне пациент проецировал на образ садистической матери свое чувство гнева, исходящее из разнообразных источников.
С другой точки зрения, тупик, который занял значительную часть третьего года терапии, можно задним числом интерпретировать как следствие механизма всемогущего контроля. Пациент успешно отражал мои интерпретации, относящиеся к диссоциированным агрессивным аспектам его Я, со злостью обвиняя меня в том, что я пытаюсь вызвать в нем чувство вины всякий раз, когда я в своих интерпретациях касался агрессивной стороны его поведения, неприемлемой для него. Как если бы я должен был либо функционировать как властная мать, либо оставаться бессильным. Моя реакция обиды и гнева на его отыгрывание вовне негативных аспектов переноса, говорила не только о моем контрпереносе, но и об активизации во мне его образа себя как беззащитного и испытывающего боль ребенка, на которого нападает властная мать. Моя эмоциональная реакция, таким образом, помогла мне углубить анализ его восприятия самого себя в отношениях с матерью. Одновременно я мог показать пациенту, что он отыгрывает роль матери в своем отношении ко мне. Такое объяснение использует представления Рэкера (Racker, 1957) о конкордантной и комплементарной идентификации в переносе, в которых делается акцент на объектных отношениях при анализе контрпереноса.
Стратегии анализа характера
Степень тяжести патологии характера не является достаточно очевидным критерием, чтобы на основании его можно было решить, нужно ли начинать интерпретацию защит характера сразу или позже. Предложение Фенихеля (1941) исследовать защиты характера в соответствии с главными темами данной точки аналитической ситуации — разумный подход, позволяющий на практике решить вопрос, когда нужно анализировать сопротивление характера. Фенихель считал, что сначала надо работать с привычными и постоянными защитами характера, чтобы “освободить личность от ригидности”; прочими же сопротивлениями характера заниматься по мере того, как они становятся сопротивлениями переноса. Но для этого надо сначала понять, имеем ли мы дело с защитой характера и, если это так, является ли она основной — с экономической точки зрения — на данный момент.
Фенихель предлагает работать “с наиболее важными текущими конфликтами инстинктов. Это — наиболее важные конфликты на данный момент” (1941). Я полагаю, что на важность конфликтов указывает интенсивность аффекта в представленном материале. Поскольку влечения (независимо от того, действуют ли они в конфликте на стороне защиты или на стороны импульса) проявляются как заряженные эмоциями интернализованные объектные отношения, доминирующее в отношении аффекта объектное отношение представляет в аналитической ситуации и доминирующий в экономическом смысле конфликт инстинкта. Но то, что доминирует в аффективном плане, не то же самое, что преобладает на сознательном уровне или на уровне поверхностных проявлений. Как говорит Фенихель, “мы должны действовать там, где находится аффект в данный момент; надо добавить, что сам пациент об этом не знает, поэтому сначала нам надо поискать место сосредоточения аффекта” (1941).
Я думаю, что надо исследовать (1) содержание свободных ассоциаций, (2) основной характер взаимодействия пациента и аналитика в их взаимоотношениях, включая сюда и невербальные реакции пациента во время сеанса, и (3) общее отношение пациента к психоаналитической ситуации в течение нескольких месяцев или даже лет. На основании этих данных можно понять, вторгаются ли патологические черты характера в перенос, в результате чего происходит смешение сопротивления переноса и сопротивления характера, а также оценить, стали ли эти формы сопротивления характера основными в аффективном плане. На основании всего этого можно понять, на чем в первую очередь стоит сконцентрировать наши психоаналитические интерпретации.
Когда нас удовлетворяют свободные ассоциации пациента, когда сопротивление, возникающее в контексте исследования ограниченности свободных ассоциаций, можно проинтерпретировать, — независимо от того, связано оно напрямую с переносом или нет, — когда пациент все лучше осознает свою внутреннюю психическую жизнь и эмоциональную сторону взаимоотношений с аналитиком, тогда можно отложить интерпретацию невербального поведения на сеансе до тех пор, пока оно не войдет естественным образом в темы свободных ассоциаций и в перенос.
Встречаются клинические ситуации, когда во время сеансов мы видим яркие проявления невербального поведения, при этом аффект и объектные отношения, выражающиеся в невербальном поведении, совпадают с вербальным материалом или его дополняют. Когда есть созвучие невербального и вербального материала, понимание смысла в переносе как первого, так и второго, способствует углубленному пониманию обоих. Другими словами, когда и вербальный, и невербальный материал указывают на природу основной аффективной темы в содержании сеанса, следует воспользоваться экономическим принципом интерпретации, то есть работать в той точке, где находится наиболее важный на данный момент конфликт инстинкта (Fenichel, 1941). Обычно тот же материал можно понять и с другой точки зрения — с точки зрения динамического принципа, то есть как конфликт импульса и защиты. Тогда можно принять решение, какой аспект защиты надо исследовать, прежде чем перейти к импульсу конфликта. Кроме того, соответствие поведения, содержания и доминирующего аффекта на сеансе обычно означает, что задействованная тут “единица” объектных отношений является основной также и в переносе. Прояснение динамической структуры импульса и защиты имеет также топографический аспект, что позволяет двигаться в интерпретации от поверхности к глубине, от сознательного к бессознательному. Обычно соответствие вербального и невербального общения встречается у пациентов с трехчастной интрапсихической структурой, при этом конфликты чаще бывают межсистемными. Поэтому можно также выяснить, какой системе — Эго, СуперЭго или Ид — соответствует основная организация защиты и какая система связана с импульсом. Таким образом, к интерпретации можно применить и структурные критерии.
Однако встречаются другие клинические ситуации, в которых проявления конфликтов в вербальном содержании не совпадают с материалом взаимодействия или противоречат ему. Сильные аффекты в вербальном содержании при остром или хроническом эмоциональном взаимодействии, в котором проявляется “замороженный” характер пациента, странным образом не соответствуют одно другому, поэтому встает вопрос, какой же материал на самом деле является основным. При таких обстоятельствах критерии, описанные ниже, помогают принять решение о том, чем следует в первую очередь заняться и какой выбрать подход.
Прежде всего стоит подумать о том, удовлетворяют ли нас свободные ассоциации пациента или же он сознательно подавляет чтото значимое. Тогда мы обращаем главное внимание на мотивы сознательного подавления материала и на соответствующий им вид переноса. Понимание трансферентного смысла мотивов, по которым пациент ограничивает полноту свободных ассоциаций, дает ответ на вопрос, что доминирует в аффективном плане на сеансе и что первично в этом смысле: вербальное содержание или невербальное поведение пациента.
Если процесс свободных ассоциаций у пациента протекает удовлетворительно, то вопрос о преобладающем типе переноса исследовать легче и аналитик может понять, что является ведущим: вербальный материал или установки пациента. Я считаю, что, когда в психоаналитической ситуации проявляются одновременно две параллельные “единицы” объектных отношений (одна в поведении, другая — в вербальном содержании), интерпретировать надо в первую очередь ту из них, которая преобладает как в переносе, так и в аффекте. Если же одна из них доминирует в аффекте, а другая — в переносе, надо отдать приоритет первой (применение “экономического” принципа). Я хочу подчеркнуть, что все — связанные с импульсом или защитой, с вербальными или невербальными проявлениями, с Я или объектрепрезентациями — аспекты материала обладают аффективными компонентами, так что “доминирует в аффективном плане” не значит просто, что в материале проявляется конкретная эмоция, или что он доминирует в сознании, или же что он связан либо с защитой, либо с импульсом. Важно, что это основной аффект во всей ситуации в данный момент, а не то, что он доступен сознанию. Истерический скандал, например, может быть защитой от другого доминирующего на данный момент аффекта в ситуации переноса.
Подход, который я предлагаю, отличается от подхода Вильгельма Райха (Reich, 1933), полагавшего, что всегда надо в первую очередь интерпретировать сопротивления переноса, укорененные в характере. Мой подход отличается и от утверждения Гилла (Gill, 1980, 1982) о том, что в интерпретации приоритет всегда принадлежит переносу; временами эмоции сильнее проявляются вне переноса или в отношении пациента к своему прошлому. Тот факт, что у любого аналитического материала есть трансферентный компонент, не означает, что материал переноса автоматически является доминирующим. Иногда тема, которая много часов подряд доминировала в переносе — например, хроническое разочарование пациента, который “ничего не получает от аналитика”, — внезапно перемещается на третье лицо. Таким образом, доминирующий аффект и перенос все еще согласуются между собой, хотя перенос — временно — перемещен (что может способствовать его интерпретации).
Кроме того, бывают моменты, когда происходит быстрое переключение с одного типа переноса на другой, осложняющее задачу исследования противоречий между вербальным и невербальным общением; в таких ситуациях аналитик может ждать, что произойдет кристаллизация вокруг одной из многих эмоционально значимых тем, и это позволяет ему понять, что в сфере аффектов (и, следовательно, с “экономической” точки зрения) является ведущим. С моей точки зрения, установка типа “подождем и увидим” в такой ситуации предпочтительнее, чем чисто топографический подход, согласно которому аналитик должен направить свое внимание на то, что лежит ближе всего к сознанию. В материале не бывает одной единственной “поверхности”. Существуют различные поверхности, и чтобы выбрать место, откуда можно проникнуть с поверхности в глубину (топографический критерий), надо знать, что на данный момент доминирует во всей ситуации в целом. Очевидно, что, когда в аналитической ситуации пациенту можно помочь осознать появляющиеся одновременно и в значительной степени не связанные между собой эмоции, исследование его ассоциаций, относящихся к данному наблюдению, само по себе освещает задействованные тут темы.
В периоды, когда сопротивление особенно активно, наиболее важный материал может быть относительно далек от сознания (особенно при структуре личности, использующей механизмы вытеснения). Хотя я и согласен с утверждением, что, найдя самый важный материал, надо исследовать его защитный аспект (и соответствующие сознательные или предсознательные конфигурации, с ним связанные), доступность материала сознанию сама по себе не является признаком того, что данная тема — основная.
У меня вызывает сомнение общая тенденция психоаналитиков двигаться от поверхности к глубине, от сознательного материала к бессознательному, не обращая внимания на то, что является основным с экономической точки зрения. Тем не менее преждевременное стремление дать генетическую интерпретацию бессознательных фантазий, проявляющихся в фиксации объектных отношений на уровне характера в переносе, также заслуживает скептического отношения. Работа с поверхностными проявлениями сопротивления столь же сомнительна, как и желание открыть “глубинный уровень” какогото конфликта, где “глубинный” означает “ранний” с генетической точки зрения. Я полагаю, что глубина интерпретации должна означать то, что аналитик обращает внимание на бессознательные конфликты, преобладающие на данном сеансе, на бессознательные аспекты переноса здесьитеперь. (Но рано или поздно необходимо установить взаимоотношения между “здесьитеперь” и “тами тогда”!)
Когда существуют противоречия между вербальным и невербальным общением, когда, казалось бы, свободные ассоциации проходят удовлетворительно, но нет подлинного углубления в материале, и когда, кроме всего прочего, есть признаки тупиковой ситуации в развитии переноса, — тогда нужно, как я считаю, отдать явное предпочтение анализу объектных отношений, которые задействованы в установках пациента, а не вербальному материалу. То же самое “правило” можно приложить к пациенту, который либо постоянно отыгрывает вовне или же от которого мы ожидаем такого поведения. Предпочтение невербальным коммуникациям можно отдать и в тех случаях, когда эмоции размыты, когда механизмы расщепления, приводящие к фрагментации аффектов, усиливаются и становятся основными сопротивлениями переноса, что бывает, например, у пациентов с выраженным шизоидным расстройством личности.
Я бы также предпочел интерпретировать поведение, а не противоречащее ему вербальное общение, тех пациентов, которые по своей природе склонны “проживать вовне”, пациентов, свободные ассоциации которых остаются поверхностными, или же тех, у которых нет разумной установки на сотрудничество. Во всех этих случаях мнение Райха о том, что надо проинтерпретировать эти установки, прежде чем переходить к вербальному содержанию, как и принципы последовательного перехода в интерпретации от “поверхности” к “глубине” и от “защиты” к “содержанию”, — остаются в силе. Подобным образом в тяжелых случаях пограничной патологии характера, когда мощное отыгрывание вовне окрашивает начальную стадию терапии, также требуется ранняя интерпретация трансферентного смысла патологических черт характера.
Другими словами, когда свободные ассоциации “вязнут” при бурной активизации патологических форм поведения — в ситуации анализа или же во внешней жизни пациента, — показано аналитическое исследование этого поведения и прояснение его отношения к переносу. Или, выражаясь иначе, можно сказать, что с экономической точки зрения противоречия между вербальным и невербальным поведением требуют интерпретирующего подхода к цельной картине, созданной этими противоречиями. Поэтому на практике анализ сопротивления характера в переносе надо начинать рано.
В других случаях серьезные искажения в отношении к психоаналитическому сеттингу становятся заметны нескоро. В клинической иллюстрации, приведенной выше, после периода прогресса на третьем году анализа терапевтический тупик выявил патологию отношения пациента к интерпретациям и к аналитику (продукт тайного компромисса между завистливой идеализацией и обесцениванием). В других случаях, подобных тем, которые приводит Райх, пациент выдает свободные ассоциации, содержащие много информации о прошлом и настоящем. При этом пациент гибко переходит от эмоций к интеллектуальному пониманию, от фантазии к реальности, от переноса к своей внешней жизни и так далее. Таким образом, внешне мы видим как бы описанный Ференци (Ferenczi, 1919) и Гловером (Glover, 1955) процесс “оптимальных свободных ассоциаций”, но при этом не происходит реального углубления взаимоотношений переноса или не появляется какое бы то ни было невербальное поведение во время сеанса, которые бы способствовало исследованию переноса.
В этих случаях опять же, как правило, бывает искажено само тотальное отношение к аналитику, и надо распознать данное искажение, особенно тогда, когда оно влияет на отношение пациента к интерпретациям аналитика. Тут интерпретация патологических черт характера совпадает с интерпретацией отношения пациента к интерпретирующему аналитику. В состоянии тупика именно этим темам надо отдавать предпочтение. Иначе такие пациенты могут достичь поверхностного “понимания” психоаналитических теорий, используя их как защитное сопротивление от полноценного понимания своих бессознательных внутренних конфликтов, что ограничивает терапевтический эффект.
При таких обстоятельствах важно прояснить бессознательные аспекты взаимодействия пациента и аналитика здесьитеперь, это является важнейшим шагом к полному пониманию объектного отношения, которое выражается в поведении пациента, при этом не стоит спешить с генетической реконструкцией. Не надо думать, что интервенция, касающаяся здесьитеперь, есть нечто отрезанное, диссоциированное от аспектов “тамитогда”. Но исследование связи с прошлым стоит отложить до того момента, пока не будут полностью изучены бессознательные аспекты переноса. Пациенту часто легче принять интерпретацию переноса в том случае, когда есть предположительная связь между его отношением к аналитику и детством; поэтому не надо откладывать генетическую реконструкцию на заключительный этап анализа. Но я хочу подчеркнуть, что сначала нужно прояснить неведомое в настоящем; этот шаг часто пропускают при работе с пациентами, страдающими тяжелой патологией характера.
Когда аналитик показывает пациенту бессознательную фантазию на основе конкретного объектного отношения, отыгрываемую в хроническом невербальном поведении во время сеанса, это психоаналитическая конструкция. За ней должна следовать генетическая реконструкция, но лишь после того, как ассоциации пациента постепенно преобразуют эту конструкцию в соответствующее объектное отношение прошлого, что сопровождается появлением новой информации относительно прошлого и естественной реорганизацией новой и старой информации относительно этой области. Для того чтобы воссоздать настоящую генетическую последовательность на основании вновь найденного материала, аналитик должен активно организовывать и реорганизовывать эти генетические структурные единицы бессознательных конфликтов пациента (Blum, 1980).
В ситуации тупика исследование аналитиком своих собственных эмоциональных реакций, относящихся к пациенту, может быть необычайно важным для диагностики как искажений хронического контрпереноса (более тотального, хотя и менее резкого, чем острый контрперенос), так и незаметных, но мощных форм отыгрывания переноса вовне, которые иначе можно не различить. В этом смысле анализ своих эмоциональных реакций аналитиком есть “запасной” подход, который можно использовать в тех случаях, когда основной подход — непосредственное исследование переноса — недостаточно эффективен (Heimann, 1960; Kernberg, 1975).
В анализе скрытых и часто совершенно неосознанных пациентом форм “обмена ролями” с аналитиком важнейшее место занимает изучение сиюминутных эмоциональных реакций, возникающих у аналитика по отношению к пациенту. С помощью такого анализа можно также отличить реакции контрпереноса в узком смысле слова (активизацию бессознательных конфликтов аналитика в ответ на перенос пациента) от общей эмоциональной реакции аналитика на пациента. Мы знаем, что два этих типа реакций дополняют друг друга. Такое разграничение позволяет аналитику с большей легкостью исследовать моментальные изменения в его эмоциональных реакциях и фантазиях, касающихся установок пациента в данный момент, и его привычных установок; таким образом обогащается понимание вербального содержания общения пациента. Нужно ли особо подчеркивать, что, когда аналитик использует свои собственные эмоциональные реакции на пациента, это никоим образом не значит, что он ими делится с пациентом?
Метапсихологические соображения
Вернемся к рассмотрению экономических, динамических и структурных критериев Фенихеля, касающихся интерпретации сопротивления характера, прибавив интерпретацию интернализованных объектных отношений, которые выражаются через сопротивления характера. Рассматривая экономические критерии, я подчеркивал, что сначала необходимо интерпретировать материал, который доминирует в аффективной сфере. Одновременно я выражал сомнения относительно того, что близость к сознанию является столь значимым критерием, что на его основании можно было бы определить доминирование материала в сфере аффектов. Этими мыслями я руководствовался, рассматривая в своих работах сложности выбора основной — с экономической точки зрения — темы в ситуации, когда вербальное и невербальное поведение пациента противоречат друг другу.
Относительно динамических критериев интерпретации я писал (1980, гл. 10), что в случаях глубокой регрессии переноса или же у подлежащих анализу пациентов с пограничной личностной организацией преобладание механизмов расщепления над механизмами вытеснения позволяет динамически противоположным компонентам интрапсихического конфликта появляться в сознании поочередно. Это значит, что доступность для сознания сама по себе не дает нам возможности понять, с какой стороной конфликта мы имеем дело: с защитой или с импульсом. Защита и импульс быстро сменяют друг друга как разные роли активизированных объектных отношений, что типично для частичных объектных отношений; импульсы конфликта входят в сознание, они скорее диссоциированы или отщеплены, чем вытеснены. Таким образом, сознательное и бессознательное не соответствуют поверхностному и глубокому, защите и содержанию. Но, хотя топографический подход к интерпретации (организация материала от поверхностного к глубокому) и не применим при исследовании пограничных структур личности, в каждый данный момент важно определить, какое защитное Эгосостояние с каким “импульсивным” состоянием борется. Одним словом, как экономические, так и динамические критерии, сформулированные Фенихелем, вполне надежны. Это подводит нас к вопросу о структурном аспекте интерпретации сопротивлений характера при разных степенях тяжести психопатологии.
Взгляд на интерпретацию сопротивлений характера со структурной точки зрения имеет отношение к организации доминирующих интернализованных объектных отношений, активизирующихся в переносе в контексте конкретной черты характера или специфического паттерна. Когда мы диагностируем “единицы” интернализованных объектных отношений, мы диагностируем подструктуры трехчастной структуры. Фактически, мы применяем структурную перспективу там, где трехчастная структура еще (или уже) не действует. Установка пациента, как ранее упоминалось, отражает проявление Ярепрезентации, аффективными отношениями связанной с объектрепрезентацией, или же проявление объектрепрезентации (с которой пациент в данный момент идентифицируется), связанной аффективными отношениями с Ярепрезентацией (спроецированной на аналитика). В первую очередь надо принимать во внимание то, в какой степени Я и объектрепрезентации укоренены в Эго или СуперЭго пациента, отражают ли они достаточно цельные концепции, ценности и эмоциональные склонности Эго и СуперЭго или же наоборот — диссоциированы или отщеплены от других репрезентаций Я и объектов. Частичные объектные отношения более непоследовательны, причудливы и фантастичны, чем цельные объектные отношения. Последние в большей мере отражают обычный опыт детства, который, хотя и подвергается вытеснению, интегрирован в Эго и СуперЭго ребенка.
Когда мы пытаемся понять структурный аспект патологических черт характера в переносе, возникает один важный вопрос. Какой конфликт выражают активизирующиеся объектные отношения: внутрисистемный или межсистемный? И если это межсистемный конфликт, каким структурам соответствуют репрезентации Я и объекта? Или какое объектное отношение соответствует защите, а какое — импульсу конфликта и к каким структурам то и другое относится? При внутрисистемном конфликте отщепленные интернализованные объектные отношения на первый взгляд кажутся отделенными друг от друга, но они недифференцированные по своей природе. Кроме того, они интенсивные, но неопределенные и всегда в значительной степени фантастичные и нереалистичные. Их надо перевести в доступные пониманию аффективные переживания здесьитеперь; фантазия, воплощенная в них, где они поочередно принимают на себя роль то защиты, то импульса, должна быть прояснена в терминах того, какое отщепленное объектное отношение в данный момент выполняет защитную функцию против другого (импульса). Внимательное отношение к обмену Я и объектрепрезентациями с аналитиком — к чередованию комплементарных ролей в переносе — должно быть интегрировано с интерпретацией этих проявлений конфликта. Для этой задачи аналитик должен достаточно быстро с помощью воображения находить логику в интеракциях, которые на первый взгляд кажутся хаотичными. Если аналитик систематически обращает внимание на чувства пациента, возникающие под влиянием Ярепрезентации или какойто конкретной активизирующейся объектрепрезентации, это позволяет пациенту с тяжелой патологией характера, которому показан психоанализ, достичь большей интеграции и научиться чувствовать эмпатию к себе и к объектам, что способствует превращению частичных объектных отношений в целостные. В приведенной выше клинической иллюстрации мистер T. постепенно осознал, как он идентифицируется с садистическим образом матери и со своим Яобразом обиженного и фрустрированного ребенка. Это привело к осознанию и в конечном итоге к принятию и интеграции противоречивых тенденций в самом себе — к интеграции любви и ненависти, а также образов Я, ранее спроецированных на женщин, в которых он воспринимал себя и эксплуататором, и презираемым человеком.
Когда в терапии возникает регрессивный перенос, наблюдающее Эго пациента временно устраняется. Для аналитика важно иметь четкое представление о том, как бы “нормальная” личность отреагировала при данных обстоятельствах на его интерпретацию. Эта гипотетическая “нормальная” личность обычно представлена в сотрудничестве наблюдающего Эго пациента с аналитиком. Но, возможно, такого сотрудничества совсем нет — временно оно может исчезнуть у любого пациента, а у пациента с тяжелой патологией характера оно стойко отсутствует. Поэтому при работе с тяжелыми случаями особенно важно, чтобы аналитик представлял “нормальную” часть, дополняющую регрессивное поведение пациента в данный момент. Это означает, что аналитик должен “расщепить” самого себя. Одна его часть, “переживающая”, сопровождает пациента в его регрессии и превращает его поведение в конструкцию бессознательной фантазии, которая таким образом проигрывается. Другая его часть, “отстраненная”, сохраняет объективность в те моменты, когда быть объективным чрезвычайно трудно. Для того чтобы сохранить в своем сознании границы между фантазией и реальностью, аналитик должен переносить как примитивные фантазии и эмоции, так и несоответствие между пониманием происходящего и тем уровнем, на котором возможен подход к пациенту. Аналитик должен сочетать четкие убеждения с гибкостью.
Систематический анализ характера может привести к парадоксальной ситуации. Некоторым пациентам становится легче говорить о прошлом, чем о бессознательных аспектах своего отношения к аналитику в данный момент. Сам аналитик может начать сомневаться, не слишком ли он пренебрегает исследованием прошлого, делая акцент на настоящем. Другие пациенты могут “проскочить” в реальное прошлое и устанавливают связи между осознанным настоящим и тем, в чем они видят глубочайшие уровни конфликтов прошлого. Например, они “легко” связывают конфликты настоящего с “тревогой кастрации”, но при этом конкретные и мучительные аспекты детства отсутствуют в их материале.
Тщательная проработка сопротивлений характера, постоянное внимание к тому, как меняется у пациента не только отношение к аналитической ситуации (оно свидетельствует о подлинном изменении паттернов переноса), но и его отношение к своему прошлому (показатель проработки паттернов переноса), — все это критерии подлинности психоаналитической работы, отличающейся от механического перевода проблем настоящего на язык ригидных мифов пациента о своем прошлом.
14. Я, ЭГО, АФФЕКТЫ И ВЛЕЧЕНИЯ
Эго и Я
Вопросы терминологии
Обзор психоаналитической литературы, касающейся теорий Эго и концепций Я, показывает, что в этой сфере существует нечеткость терминологии. Так, термины Эго (ego) и Я (self) иногда могут заменять друг друга, иногда же четко отграничиваются один от другого, а порой обладают двойным смыслом. Возможно, это связано с тем, как пользовался этими словами Фрейд, с тем, как Стрейчи перевел их на английский, а также с последующей историей применения этих терминов.
В своих работах Фрейд использовал немецкое Ich, “Я”, для обозначения Эго — и как психической структуры, и как психической действующей силы, а также для обозначения более личного, субъективного Я, связанного с переживаниями. Другими словами, Фрейд никогда не отделял представление о том, что мы понимаем как действующую силу, то есть представление о системном Эго, от представления о переживающем Я. Использование слова Ich лишало термин ясности и четкости, но оставляло его значение открытым.
Как я полагаю, именно эта двусмысленность слова Ich заставила Стрейчи пойти на компромисс, в результате оно было переведено как “Эго”, безличное слово, соответствующее структурной теории Фрейда (1923), но малопригодное для обозначения личного, субъективного Я.
Можно привести бесчисленные примеры из работ, написанных до 1923 года, в которых Ich обозначает субъективные переживания и самооценку, — что Рапапорт мог бы скептически назвать “антропоморфизацией” концепции Эго. Эта особенность (и я в этом вижу скорее ее сильную сторону, чем недостаток) концепции Ich у Фрейда сохраняется во всех его работах. Наиболее ярким примером, полагаю, является его высказывание в книге “Неудовлетворенность культурой” (1930a), которое в “Standart Edition”, верном немецкому оригиналу, переводится так: “В обычных условиях нет ничего, в чем мы были бы столь же уверены, как в ощущении своего Я, нашего собственного Эго”. В немецкой версии сказано: (1930b): “Normalerweise ist uns nichts gesicherter als das Gefьhl unseres Selbst, unseres eigenen Ichs”. Тут открыто ставится знак равенства между Я и Эго!
Я полагаю, что использование Стрейчи слова “Эго” для перевода Ich повлияло на наше понимание мыслей Фрейда. Я согласен с Лапланшем и Понталисом (Laplanche et Pontalis, 1973), которые считают, что Фрейд всегда сохранял двойной смысл, внутреннее напряжение своей концепции Ich, чтобы выразить этим как системное качество Эго, так и тот факт, что, являясь частью системы, Эго представляет собой средоточие сознания и, значит, осознания самого себя, своего личного Я.
Другой род сложностей при употреблении Я возникает тогда, когда это слово используют, чтобы описать взаимодействие одного человека с другим или с “объектом”. Вот как делал это Гартман (Hartmann) в 1950 году:
“На самом деле, когда мы употребляем термин “нарциссизм”, мы как бы соединяем две противоположности. Одна из них имеет отношение к Я (к собственной личности человека), которое противостоит объекту, другая — к Эго (как психической системе), которое противостоит другим подструктурам личности. Тем не менее, объектному катексису противоположен не Эгокатексис, но катексис к своей собственной личности, то есть Якатексис. Говоря о Якатексисе, мы не уточняем, относится ли он к Ид, Эго или СуперЭго*. Такая формулировка предполагает, что “нарциссизм” на самом деле присущ всем трем психическим системам; но в любом случае он противоположен объектному катексису. Так что для большей ясности следовало бы определить нарциссизм как либидинальный катексис не к Эго, но к Я. (Было бы также ценно рассматривать термин Ярепрезентация как противоположность объектрепрезентации.)”
Гартман обозначил различия некоторых понятий, что, как мы увидим, способствовало развитию идей Якобсон (Jacobson, 1964), оказавших огромное влияние на Эгопсихологию: отличие Я как личности от интрапсихических репрезентаций личности или Ярепрезентаций — и это третий термин, нуждающийся в уточнении.
Якобсон (1964), размышляя над проблемами терминологической путаницы, писала: “Они связаны с двусмысленностью в использовании термина Эго, то есть с тем, что нет четкого разграничения между Эго, представляющим структурную психическую систему; Я, определение которому дано мною выше; и Ярепрезентациями. Гартман (1950)… предлагает обозначать последним термином (по аналогии с объектрепрезентацией) бессознательные, предсознательные и сознательные эндопсихические репрезентации телесного и психического Я в системе Эго. Я многие годы пользовалась этой концепцией, поскольку она незаменима при исследовании психотических расстройств”. Якобсон, в согласии с Гартманом, определяет Я как то, что “относится ко всей личности человека в целом, включая в себя тело и части тела, а также психическую организацию и ее части… “Я” есть добавочный термин, описывающий личность как субъект, в отличие от окружающего мира объектов” (1964).
Мне кажется, что Гартман, пытаясь спасти термин Эго от вложенной в него Фрейдом двусмысленности, обеднил его. Как и Стрейчи, он хотел сделать концепцию Эго последовательной. И определив “Я” как то, что противоположно объекту, Гартман, таким образом, устранил “Я” из метапсихологии. Определение Я в “Словаре психоаналитических терминов и понятий” (Moore and Fine, 1968) подтверждает эту мысль. Вот как там определяют Я: “Вся личность человека в реальности, включая его тело и психическую организацию; “собственная личность”, противоположная “другим личностям” и объектам, находящимся вне Я. “Я” есть понятие здравого смысла; его клинические и метапсихологические аспекты называют словами “Яобраз”, “Ярепрезентация” и т.д. См. также Эго, идентичность, нарциссизм”. Называя Я понятием “здравого смысла”, его успешно устраняют из психоаналитического мышления.
Как я полагаю, произведенное Гартманом фатальное отделение концепции Эго от Я, а также отделение Я от Ярепрезентации создало проблему в историческом развитии психоаналитической теории; это искусственное разделение структурного, субъективного и описательного аспектов функций Эго. Такое разграничение создало лишние сложности для понимания взаимосвязей между “безличными” функциями Эго, субъективными переживаниями и структурой характера. Так, например, попытки Якобсон (1964) создать метапсихологию переживаний Я осложнялись тем, что она на каждом шагу ощущала необходимость обозначать различия между функциями Эго и функциями Я, между аффективными Я и объектрепрезентациями — и диффузной активацией аффектов.
В связи с этим я намереваюсь отказаться в данном обсуждении от использования концепции Я как понятия, противоположного объекту. Такая концепция Я ведет к “психосоциальному” или межличностному взгляду, в котором психоанализ смешивается с социологией, последнее можно найти, например, в некоторых работах Эриксона.
Замена топографической модели психики структурной моделью привела Фрейда к поиску корней Эго в Ид, из которого Эго образовалось, и заставило разрабатывать идею о том, что Эго зависит от аппаратов восприятия и сознания. Эго стало аппаратом регуляции и адаптации к реальности, параллельно выполняющим защитные функции и ищущим компромиссные решения для конфликтов Ид, СуперЭго и внешней реальности. Глядя на Эго со структурной точки зрения, Фрейд стал меньше внимания уделять таким функциям Эго, как самоосознание, самоощущение и регуляция самооценки. Возможно, он на время стал представлять себе эти функции большей частью в понятиях межсистемных конфликтов.