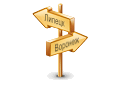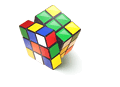Тупиковые ситуации в психоанализе
Действительно, когда пациент в течение долгого времени отыгрывает вовне в переносе свои разрушительные потребности, молчание терапевта, который просто сидит и слушает, часто снижает тревогу и гнев пациента. Но часто такое успокоение связано с удовлетворением агрессии в фантазии пациента, например, фантазии о том, что атаки зависти разрушили творческий процесс терапевта, в частности его способность независимо мыслить. Таким образом, терпимое отношение терапевта к пациенту, такому, каков он есть, на глубоком уровне воспринимается пациентом как знак того, что терапевт подчиняется его разрушительным требованиям. Такая ситуация в корне отличается от молчаливой заботы и эмпатии терапевта, сопровождающихся ответным пониманием со стороны пациента. В периоды хронических тупиковых ситуаций терапевт осуществляет холдинг иначе: эта функция проявляется в том, что терапевт не теряет веры в возможность изменения, что он беспокоится о напрасной трате времени и не согласен терпеть эту затянувшуюся невозможную ситуацию.
Я думаю, что аналитическая установка, проявляющаяся в позиции технической нейтральности — или в постоянном стремлении к ней, — создает оптимальный фон для подхода к пограничному пациенту, основанного на интерпретации. Холдинг, способность “быть матерью пациента” (mothering) или “эмоционально корректирующая” функция в этом контексте (Winnicott, 1960a; Modell, 1976) играет важную терапевтическую роль. Это происходит не просто в силу того, что терапевт таким образом заново создает нормальные взаимоотношения матери и младенца; причины терапевтической ценности этой функции значительно сложнее.
Малер (1971) предположила, что пограничная патология особенно тесно связана с субфазой “раппрошмент” в период сепарациииндивидуации. Это перекликается с моими представлениями о том, что проблемой пограничных пациентов является не недостаточное различение Я и неЯ, но недостаточная интеграция “хороших” и “плохих” Я и объектрепрезентаций. Основная проблема пограничного пациента такова: он не может достичь удовлетворяющих взаимоотношений любви с объектом, которому можно доверять и на который можно положиться, — при наличии направленной на него агрессии пациента, вопреки пониманию его недостатков, вопреки всем фрустрациям, коренящимся в отношениях с этим объектом, в контексте необходимости переносить боль вины, заботу и благодарность, направленные на объект любви. Чтобы пациент принял близость и понимание терапевта, чтобы он мог положиться на терапевта, ему необходимо принять свою собственную агрессию, зная, что она не разрушит ни терапевта, ни любви к терапевту. Чтобы терапевт мог “держать” пациента, ему нужно принять реальность агрессии пациента и не быть побежденным ею, нужно верить в способность пациента любить, несмотря на трудности в выражении своей любви, и верить, что лучшее будущее для пациента реально возможно, несмотря на все его недостатки.
Так, например, у одного пациента тяжелые ипохондрические тенденции уменьшились в тот момент, когда он открыл в себе способность выражать любовь и заботу своей жене и детям. Чувствуя, что он способен давать, пациент смог принять возможность болезни и смерти в будущем. Прежде он бессознательно воспринимал смерть как окончательный приговор, как будто бы его должна поглотить собственная “злая природа” в пустом и лишенном любви мире. Другая пациентка, женщина с нарциссическим расстройством личности, которая жила тем, что пыталась поддержать свою молодость и спрятать проявления старости, смогла “отпустить себя”, то есть перестала омолаживать свою внешность и приняла процесс старения, когда ее ужасная зависть к молодым уменьшилась и несмотря на зависть, она смогла проявлять подлинный интерес к окружающим ее в повседневной жизни и на работе людям молодого возраста.
Когда пациент позволяет “держать себя”, когда он может положиться на другого человека, это значит, что он “отпускает себя”, сознавая, что любое взаимоотношение несовершенно и рискованно. Чтобы это принять, очень важно не слишком сильно бояться своей агрессии. Когда пациент этого достигает в терапии, мы видим, что он не боится близости с терапевтом, несмотря на то, что эта близость ограничена временными рамками сеанса, кроме того, пациент способен принять тот факт, что у терапевта есть своя жизнь за пределами психотерапии.
Я уже подчеркивал, что терапевту недостаточно быть эмоционально открытым, теплым, интересующимся человеком, способным переносить агрессию, не отвечая на нее контратакой; он всегда должен также сохранять интеллектуальную ясность, проявляющуюся в понимании того, почему он делает тот или иной ход или его не делает. Он также должен реалистично сознавать ограниченную эффективность своих вмешательств.
Терапия пограничного пациента — обычно медленный, неопределенный процесс, где повторяются исследование смысла, конфронтации, проверка гипотез в интерпретации, проработка саморазрушительных черт характера, это не похоже на внезапные озарения или катарсис. Первые, чаще всего слабые, признаки изменения ригидных паттернов характера (таких как злокачественная грандиозность, тяжелый нарциссизм, хронически торжествующий мазохизм, полное отрицание эмоциональной реальности или проявления антисоциальной эксплуатации, порождающие порочный круг) могут быть такими короткими и преходящими, что любая надежда, которую порождают эти ранние признаки изменения, обычно вскоре угасает.
Изменение основных сочетаний интернализованных объектных отношений — процесс долгий и медленный. Вот почему нетерпение при длительной тупиковой ситуации должно сочетаться с огромным терпением относительно того, что в течение долгого времени изменения не происходит (причем сам этот факт надо осознавать). Проявления роста способности любить, заботиться и быть благодарным обычно сложны, порывисты и на первый взгляд незаметны. Ненависть же, напротив, ясна, прозрачна и лежит в четко очерченных границах. Когда пациент, переживающий ненависть к терапевту, становится более четким, ясным, оживленным или даже восторженным, забота о пациенте в такие моменты приводит терапевта к замешательству и даже сбивает с мысли. И тем не менее, эти замешательство и путаница являются свежим материалом для лучшего понимания терапевтом пациента. Ранние стадии “очеловечивания” пациента могут принять хаотичные формы, они полны депрессии и страданий. На долгом пути к пониманию трудности неизбежны.
Ожидание того, что наши растущие знания смогут сократить сроки терапии пациентов с тяжелой патологией характера и пограничными расстройствами, могут оказаться очередной иллюзией относительно процесса, техники и результатов психотерапии. Но возможность после достаточно короткого периода терапии диагностировать основные паттерны переноса, отражающие главные конфликты пограничного пациента в сфере объектных отношений, представляется мне реальным следствием наших растущих знаний об этих пациентах. Такая ранняя диагностика позволит после начального периода психотерапии конкретно ответить на вопрос, какого рода изменений можно ожидать у этого пациента и каковы будут их последствия. В контексте изучения процесса и результатов интенсивной психотерапии, возможно, достоин исследования и этот вопрос.
Оценить суицидальный потенциал при первоначальном диагностическом исследовании гораздо труднее, если терапевт знаком с пациентом. О степени суицидального риска у пациентов, которые проходят первое диагностическое обследование, позволяют судить следующие факторы: клиническая степень тяжести депрессии, маниакальнодепрессивные психозы на фоне пограничной организации личности, а также хроническая тенденция наносить себе повреждения или хроническая склонность к суицидальному поведению как “образ жизни”.
Клиническая степень тяжести депрессии
Чтобы оценить этот фактор, надо исследовать как интенсивность суицидальных мыслей и планов, так степень влияния депрессии на поведение, настроение и мышление. О степени тяжести депрессии можно судить по тому, насколько заторможены поведение и мышление (причем страдает и концентрация внимания) и насколько печаль сменилась пустым замороженным состоянием, сопровождающимся субъективным ощущением деперсонализации. Кроме того, биологические симптомы депрессии (проявляющиеся в изменении аппетита, веса, сна, пищеварения, ежедневного ритма депрессивных чувств, менструального цикла, сексуального желания, мышечного тонуса) дают дополнительную, очень важную информацию о степени тяжести депрессии. Чем тяжелее депрессия, сопровождающая суицидальные мысли и намерения, тем опаснее ситуация. У пациентов с тяжелыми эпизодами депрессии, но без признаков пограничной личностной организации, суицидальный риск особенно выражен на стадии выхода из парализующей депрессии. У пограничных же пациентов, по причине их постоянной импульсивности, риск сохраняется в течение всего периода депрессии. Особую опасность представляет ситуация, когда выражены все три ряда признаков (суицидальные мышление и намерения, депрессивная заторможенность психических функций и биологические признаки депрессии) одновременно.
Степень же выраженности “сценического” поведения — драматическое проигрывание чувств у инфантильной личности — является менее ценным критерием для диагностики тяжести депрессии и суицидального риска. Бывают пациенты с высоким суицидальным риском, которые своим драматическим поведением маскируют от терапевта тяжесть своей депрессии или же с помощью временного обаяния и общей эмоциональной лабильности создают ложное впечатление, что их депрессия не столь серьезна.
При оценке суицидального потенциала у пограничных пациентов меня поражает, насколько бесполезны их сознательные рационализации своей депрессии, с которыми они приходят на первые интервью. Они говорят, например, что их депрессия есть выражение “потребности в зависимости”, осознанного чувства “безнадежности”, потери способности “доверять”, что самоубийство есть “крик о помощи”, и многое тому подобное. В клинической практике не стоит вопрос, чувствует ли пациент “беспомощность” вообще, но к чему конкретно относится эта беспомощность: к получению любви от амбивалентного объекта? К способности контролировать объект или совершить акт мести? Таким образом, вопрос не в том, может ли пациент “доверять” терапевту, — нет причин ожидать, что пациент начнет доверять почти незнакомому человеку, — но в том, хочет ли он честно говорить о себе независимо от чувств, которые вызывает терапевт. Общая черта всех этих тем сводится к потребности оценить вторичные выгоды суицидального поведения, что подводит нас к оценке самоубийства как “образа жизни”.
Неправильное использование психоаналитических концепций для построения динамических гипотез при оценке суицидального потенциала может быть одной из главных причин ошибок в диагностике и лечении пограничного пациента с высоким суицидальным риском. Психодинамические факторы, конечно, важны, но их надо исследовать в объектных отношениях с терапевтом здесьитеперь, а не на основе осознанных фантазий пациента.
Основные аффективные расстройства
у пограничной личности
Пациенты с самым настоящим маниакальнодепрессивным расстройством могут иметь пограничную личностную организацию как стабильный характерологический фон, на котором возникают циклические эпизоды аффективного заболевания. Диагностика и клинический подход в таких случаях сложнее, чем в чаще встречающихся случаях маниакальнодепрессивных пациентов с невротической или нормальной личностной организацией. По моим наблюдениям, пациенты с пограничной личностной организацией хуже поддаются воздействию психофармакологической терапии маниакальнодепрессивных заболеваний, чем пациенты с невротической или нормальной организацией; кроме того, у пограничных пациентов менее четко отделяется период психотического эпизода от латентного периода. Существует большая опасность, что клиницист, столкнувшись с таким пациентом, недооценит серьезность суицидальных намерений, особенно в тех случаях, когда история пациента заставляет предположить, что такие тенденции у него хронические и в достаточной мере интегрированы с основными структурами его личности, что на самом деле не так. Острый суицидальный риск можно недооценить в том случае, когда пациент долгие годы страдал тяжелыми личностными расстройствами с повторяющейся депрессией, не проявляя суицидальных намерений. Когда преобладает скорее маниакальная, чем депрессивная симптоматика, опасность проглядеть суицидальный потенциал еще выше, поскольку переключение на депрессивную фазу может произойти внезапно.
Хроническое саморазрушение
и суицид как “образ жизни”
В DSMIII в разделе, посвященном диагнозу пограничного расстройства личности, подчеркивается, что суицидальные тенденции и склонность наносить себе повреждения являются одной из основных характеристик данной группы пациентов. С клинической точки зрения, такая склонность к саморазрушению встречаются у пациентов с инфантильным расстройством личности, у пациентов с нарциссической личностью, функционирующих на пограничном уровне, у пациентов с “ложной” личностью и у других пациентов с пограничной личностной организацией, которым свойственна pseudologia fantastica. Наконец, некоторые нетипичные пациенты с хроническими психозами могут походить на этот тип пограничных пациентов. Всех таких пациентов по практическим соображениям стоит исследовать с двух точек зрения: с описательной и с психодинамической (то есть оценить функции защитных операций и примитивные объектные отношения, доминирующие в переносе). Такое двойное исследование позволяет разделить этих пациентов на следующие подгруппы.
(1) Часто встречающийся тип пациента, у которого хроническая тенденция наносить себе повреждения сочетается с инфантильным типом личности и с пограничной личностной организацией; данный тип довольно точно соответствует описанию диагноза пограничного расстройства личности в DSMIII. Нанесение себе повреждений или суицидальное поведение появляются в момент приступа чистой ярости или ярости, смешанной с временным обострением депрессии. Углубленное исследование часто показывает, что с помощью такого поведения пациент пытается установить или восстановить контроль над средой, пробуждая в окружающих чувство вины, — когда, например, разрываются отношения с сексуальным партнером или когда родители противостоят желаниям пациента. Суицидальное поведение и другие формы саморазрушения могут также выражать бессознательную вину за успех или изза углубления психотерапевтичских взаимоотношений — последний случай представляет сравнительно доброкачественный вид негативной терапевтической реакции. Пациенты, у которых в прошлом отмечалась негативная терапевтическая реакция и у которых инфантильные черты сочетаются с депрессивномазохистическими, представляют особый риск в плане суицидальных попыток.
(2) Гораздо более серьезный тип хронического нанесения себе повреждений, нередко связанного с суицидальными тенденциями, является проявлением злокачественного нарциссизма, как я его называю . Этот феномен встречается у пациентов с пограничной личностной организацией с преобладанием нарциссической структуры личности, функционирующей на пограничном уровне, — то есть у таких пациентов наблюдается нарушение контроля над импульсами и недостаток способности переносить тревогу и способности к сублимации. Образ жизни таких пациентов столь же хаотичен, как и у пациентов с инфантильным расстройством личности, и их часто путают с последними. Но инфантильным личностям (как и вообще пограничным пациентам без патологического нарциссизма) свойственны сильная зависимость и тенденция “прилипать” к людям. Пациенты же со злокачественным нарциссизмом в основном холодны и отчуждены в своих взаимоотношениях с другими; приступы ярости или острой депрессии случаются у них тогда, когда чтото угрожает их патологической грандиозности и они переживают травмирующее ощущение унижения или краха.
Термин злокачественный нарциссизм относится к пациентам, у которых агрессия пропитывает патологическое грандиозное Я, характерное для нарциссической личности. В отличие от обычного типа нарциссической личности, самоуважение и уверенность в своей грандиозности у этих пациентов растет тогда, когда они выражают агрессию, направленную на себя или на других. Удовольствие от жестокости, садистические сексуальные перверсии, а также наслаждение от причинения себе вреда — вот части общей картины. Спокойствие, с каким эти пациенты могут причинить себе вред и даже убить себя, контрастирующее со страхами, отчаянием и “мольбами” окружающих — родственников или персонала, — стремящихся защитить их жизнь и установить с ними человеческий контакт, есть проявление крайне извращенных средств, с помощью которых эти пациенты удовлетворяют свое самоуважение. Пациент в своей грандиозности переживает победу над страхом боли и смерти и, на бессознательном уровне, чувствует, что контролирует и саму смерть. Некоторые пациенты с анорексией относятся к этому типу.
Оба вышеописанных типа могут, кроме того, страдать хронической наркоманией и алкоголизмом, иногда — и тем, и другим. При таких обстоятельствах суицидальный риск сильнее и прогноз хуже, особенно у пациента со злокачественным нарциссизмом. Когда у пациента представлены также и антисоциальные черты (в типичном случае, нечестность в отношении употребления наркотиков и алкоголя), риск самоубийства еще выше. Пациенты, у которых сочетаются общая импульсивность, нечестность, хронические тенденции причинять себе вред, зависимость от алкоголя и наркотиков и глубокая эмоциональная отрешенность или эмоциональная закрытость, готовы действовать на основе суицидальных тенденций в любой момент; риск невозможно точно оценить в любых конкретных обстоятельствах. Можно только принять как факт постоянную угрозу самоубийства при терапии таких пациентов.
По моим наблюдениям, у госпитализированных психиатрических пациентов существуют две наиболее частые причины самоубийств: недостаточный контроль за жизнью пациента с опасным сочетанием симптомов во время лечения и преждевременная выписка пациента, выходящего из психотической депрессии.
(3) Третий тип хронической склонности к саморазрушению и суицидального поведения мы наблюдаем при некоторых хронических атипичных психотических состояниях, которые напоминают пограничные расстройства. Сюда относятся, например, некоторые пациенты с хронической шизофренией (настоящая “псевдоневротическая шизофрения”), некоторые пациенты с хроническим шизоаффективным заболеванием или пациенты с хроническим параноидным психозом, у которых структура личности намного лучше интегрирована, чем у большинства пациентов с параноидной шизофренией. Многих таких пациентов на основании лишь описательных критериев невозможно отнести к психотикам. Лишь структурная диагностика позволяет выявить у них потерю тестирования реальности. Это пациенты с подлинной психотической организацией личности, у которых перемежающаяся депрессия может приобретать черты психоза со сверхценными или даже бредовыми депрессивными мыслями. Вне депрессивного эпизода такие пациенты держатся во взаимодействии с терапевтом замкнуто и отчужденно. Часто в прошлом у них можно найти эпизоды причудливых суицидальных попыток, сопровождавшихся необычайной жестокостью или еще какимито идиосинкразическими особенностями (связанными с их аутичными фантазиями о телесной или психологической трансформации). Сюда же можно отнести и пациентов, которые совершают суицидальные попытки под влиянием бреда преследования или галлюцинаций. Я встречал нескольких пациентов, которые носили в себе бредовые идеи, что они осуждены на смерть или что им приказано убить себя. Такие бредовые идеи могут развиваться годами в контексте депрессии, шизоидной отчужденности или параноидных свойств личности.
Клинический подход
Вопервых, терапевт должен оценить степень тяжести депрессии, которая на фоне пограничной личностной организации может быть фактором острого суицидального риска. Я считаю, что пациент с пограничной личностной организацией, на фоне которой развивается маниакальнодепрессивный психоз, и с суицидальными тенденциями нуждается в срочной госпитализации, в психофармакологической терапии депрессии. Если же прошлая история пациента говорит о его резистентности к психофармакологическому лечению или об исключительно сильной тяге к самоубийству, надо применять электрошок. Пациент с историей причудливых суицидальных попыток в прошлом, с психотической личностной организацией или с признаками психотического синдрома в настоящий момент (будь то шизофрения, шизоаффективный или параноидный психоз) и суицидальными тенденциями должен быть, по меньшей мере, госпитализирован для диагностики и интенсивной терапии психотического синдрома. Разумеется, если такой пациент нечестен в своем общении с терапевтом, следует отнести его к группе высокого суицидального риска. Во всех случаях терапия психотического синдрома стоит на первом месте по отношению к терапии расстройства личности. На практике это означает, что пациент должен получать психофармакологическую терапию, должен быть по крайней мере на короткое время госпитализирован; может встать вопрос о необходимости терапии электрошоком. Кроме того, необходимо произвести тщательное изучение истории болезни, чтобы оценить суицидальный риск в долговременной перспективе по окончании острого психоза.
У пограничного пациента с острой угрозой самоубийства сочетание хронической импульсивности с маниакальным или депрессивным эпизодом служит показанием к госпитализации даже в том случае, когда история пациента хорошо изучена и не свидетельствует об опасности и когда пациент установил психотерапевтические взаимоотношения с психиатром, проводящим обследование. Быть может, самым опасным периодом при терапии такого пациента является период выздоровления после острой психотической депрессии. Суицидальные попытки чаще всего приходятся на этот период, а суицидальные намерения труднее выявить, поскольку они занавешены вновь появившимися признаками тяжелой патологии характера. Преждевременная выписка в связи с быстрым симптоматическим улучшением депрессии у пациента, который к тому же искренне отрицает свои суицидальные намерения, является основным фактором, способствующим совершению самоубийства после выхода из госпиталя. Возможно, такие случаи встречаются в наше время чаще, что связано с сочетанием финансовых, бюрократических и идеологических факторов, вынуждающих сокращать сроки пребывания пациента в психиатрическом госпитале.
Возможно, стоит обойтись без госпитализации, если у пациента с пограничной личностной организацией нет признаков маниакальнодепрессивного психоза или других психотических синдромов, а суицидальные намерения и депрессивное настроение не сопровождаются биологическими симптомами депрессии или заторможенностью поведения, мышления и эмоций — другими словами, когда депрессия с клинической точки зрения не является тяжелой. Решающим фактором тут является наличие антисоциальных черт характера, в частности любое проявление нечестности в словах пациента о самом себе. Вряд ли можно положиться на слова пациента, если в его истории присутствует нечестность по отношению к предыдущим психиатрам или психотерапевтам, особенно обман относительно суицидальных попыток, алкоголизма и наркомании. В таком случае показана госпитализация для тщательной оценки суицидального риска и особенностей поведения пациента.
Встречаются пациенты, которых не беспокоит их ситуация, которые равнодушно, презрительно или с поверхностной вежливостью относятся к терапевту, проводящему диагностическое интервью, и у которых в то же время заметны признаки суицидального поведения. Есть вероятность, что такой пациент нечестен и, следовательно, риск самоубийства в данном случае высок. Тактичная конфронтация, в которой терапевт показывает пациенту противоречие между его суицидальным поведением и беззаботным отношением к себе, помогает выяснить, в какой степени тут замешаны механизмы расщепления или отрицания или же мы имеем дело с сознательными манипуляцией и нечестностью. Гнев пациента в ответ на такую конфронтацию дает нам точки опоры для оценки суицидального потенциала; уклончивый и холодный пациент не позволяет глубоко заглянуть в его психическую реальность. В любом случае терапевт должен оценить не только вербальное общение пациента, но и все его поведение в целом. Такое рассуждение может показаться поверхностным тому, кому не часто приходилось встречаться с опасной склонностью терапевтов при оценке состояния пациента недооценивать разнообразие видов человеческой агрессии, направленной на других или на себя.
Не столь высок риск у пациентов с инфантильными или мазохистическими чертами, не страдающих от алкоголизма и наркомании, скорее зависимых и “прилипчивых”, чем отрешенных и замкнутых; откровенно говорящих о своих проблемах и озабоченных состоянием своей психики. Этих пациентов можно лечить амбулаторно, если они смогут убедить ставящего диагноз терапевта, что не будут действовать на основании суицидального импульса и немедленно обратятся к нему за помощью, почувствовав, что не могут больше себя контролировать; в этом случае им можно будет предложить госпитализацию. Но с пациентами, у которых суицидальное намерение или поведение появилось уже в процессе нормальной интенсивной психотерапии и у которых есть признаки негативной терапевтической реакции, такой договор неразумен. Лучше, чтобы такой пациент начал новые психотерапевтические отношения с другим терапевтом в госпитале. Конечно, если из истории пациента видно, что у него происходят позитивные изменения в ответ на психотерапию, это увеличивает возможность начать психотерапию в амбулаторных условиях.
В любом случае верно одно: если терапевт, проводящий диагностику, приходит к убеждению — и на основании истории пациента, и на основании взаимодействия с ним в данный момент, — что пациент общается с ним честно, то оценка суицидального потенциала при регулярных встречах с ним будет гораздо точнее.
Когда есть показания для госпитализации, а пациент от нее отказывается, терапевт несет ответственность за то, чтобы были мобилизованы все социальные и юридические ресурсы, которые позволят начать терапию при оптимальных условиях. Ни при каких обстоятельствах терапевт не должен соглашаться на терапию при условиях, увеличивающих риск самоубийства. Бессознательное желание “быть Богом” сочетается с опасной наивностью, которая мешает увидеть серьезность разрушительных тенденций пациента и его семьи. Частым фактором, способствующим самоубийству пограничного пациента, получающего амбулаторную терапию, является, к сожалению, согласие психотерапевта начать терапию при неоптимальных условиях — например, когда терапевт позволяет пациенту отвергнуть некоторые аспекты терапии (лекарства, дневное наблюдение, участие семьи и так далее), когда он терпимо относится к тому, что пациент пропускает назначенные сеансы или нечестен в своих высказываниях.
Постоянные и прямые разговоры о суицидальном риске являются ключевым аспектом терапии всех пограничных пациентов с хроническими суицидальными тенденциями в госпитале. Я уже упоминал об одной классической ошибке: о преждевременной выписке из госпиталя пациента с маниакальнодепрессивным психозом, когда клиническое улучшение депрессии увеличивает суицидальный риск. Другая, к сожалению, распространенная ошибка заключается в том, что персонал госпиталя стремится вовлечь пограничного пациента в приятные дела, приносящие удовлетворение, игнорируя или отрицая при этом тяжесть их злокачественного, манипулятивного и нечестного поведения. Существует огромная опасность, что, когда тревожные сигналы воспринимаются как изолированные приступы, а основное внимание уделяется “позитивным” аспектам пациента, это поддерживает механизм расщепления.
Последовательная конфронтация, направленная на противоречия в поведении пациента, на его беззаботное отношение к себе, на то, как он разрушает взаимоотношения с другими, у которых мог бы найти помощь, на то, что он не сотрудничает с терапевтом, — сразу создает напряжение, волнение и способствует прямому выражению агрессии в межличностном пространстве госпиталя. По той же причине способность пациента отвечать за себя и способность честно сотрудничать с психотерапевтом легче оценить при открытом и прямом, — хотя оно и несет в себе нападение и злость, — общении. При такой открытости легче создать реалистичный план терапии после выхода из госпиталя. Атмосфера же поверхностного дружелюбия, за которым стоит отрицание проблем пациента, часто приводит к возобновлению саморазрушительного поведения, к нанесению себе повреждений или к суицидальному поведению после выписки пациента из госпиталя.
Во многих случаях тяжесть хронической тенденции к саморазрушению не удается уменьшить даже за длительное время госпитализации. Иногда надо принять риск самоубийства как цену за возможность амбулаторного лечения в надежде, что пребывание в своем доме потребует от пациента более продуктивного образа жизни и что психотерапевтические взаимоотношения в контексте реального мира предпочтительнее искусственной защищающей среды госпиталя. Как можно при таких обстоятельствах снизить суицидальный риск?
Прежде всего надо определить вторичные выгоды суицидального поведения и контролировать их. Постоянная угроза самоубийства и поведения, выражающего отыгрывание вовне садистических тенденций пациента по отношению к членам семьи, помогают пациенту командовать близкими, что представляет собой сочетание первичных и вторичных выгод от болезни; все это надо интерпретировать и контролировать. Работа с семьей такого пациента может оказаться наиважнейшей частью терапии. Необходимо, чтобы пациент понимал, что он не может влиять на терапевта угрозой самоубийства.
Терапевт должен дать понять пациенту, что если тот убьет себя, терапевту станет грустно, но он не отвечает за этот поступок и после смерти пациента его жизнь существенно не изменится. Так терапевт закладывает основы для новых объектных отношений, не похожих на отношения пациента со своей семьей.
Вовторых, терапевт должен сообщить семье, что пациент всегда может совершить самоубийство, что тот как бы болен психологическим раком, который в любой момент может привести к смерти. Терапевт должен сказать тем, кто беспокоится за пациента, что готов постараться помочь пациенту преодолеть свою болезнь с помощью психотерапии, но что он не может гарантировать успеха или пообещать, что пациент не совершит самоубийства за длительный период терапии. Реалистичное описание терапии есть самый эффективный способ защитить психотерапевтические взаимоотношения от разрушительного влияния других членов семьи и от попыток пациента контролировать терапию, вводя терапевта в состояние “косвенного контрпереноса” (Racker, 1968), характеризующегося чувством вины и параноидными страхами перед третьей стороной.
Втретьих, работая с пациентами, которым свойственны саморазрушительные и суицидальные тенденции, терапевт должен постоянно исследовать эти тенденции при любом анализе взаимодействия пациента с терапевтом. Трудно как следует описать эту технику, не приводя детального разбора клинического материала. С практической точки зрения можно сказать, что работа с суицидальным потенциалом является существенным аспектом психотерапевтической техники, элементом, постоянно присутствующим в интерпретациях терапевта.
Вчетвертых, важно, чтобы терапевт, вне госпиталя работающий с пограничным пациентом, у которого есть постоянные суицидальные тенденции, не соглашался на условия терапии, требующие от терапевта сверхъестественного напряжения или героических усилий. По большому счету, когда от терапевта требуются усилия, выходящие за рамки обычной психотерапевтической работы, это в конечном итоге усиливает склонность пациента к саморазрушению. Иногда у персонала госпиталя и даже у психотерапевта может появиться бессознательное (или даже сознательное) желание, чтобы невозможно трудный пациент “исчез”, что воспроизводит в контрпереносе и стремление к смерти самого пациента, и желание семьи, чтобы его не стало. Надо сказать, что наивное отношение к суицидальным тенденциям пациента нередко сопровождается наивными представлениями об установках семьи, которая может желать смерти невозможному своему члену. Персонал госпиталя часто сталкивается с проблемой, когда семья настаивает на выписке пациента, находящегося в состоянии острого суицидального риска. При этом родственники нередко уверяют, что пациент будет получать терапию в другом месте, а затем просто предоставляют пациенту возможность покончить с собой. Самый лучший способ борьбы с желаниями того, чтобы пациент умер, — принять такие желания с полной серьезностью и рассмотреть вопрос о том, как они “заражают” окружающую пациента среду.
Я подчеркиваю (гл. 19), что при работе с пациентами, страдающими злокачественным нарциссизмом и обладающими высоким суицидальным потенциалом, терапевт должен быть готов к неудаче, и это существенно важный момент. Бессознательная или сознательная фантазия пациента о том, что терапевт отчаянно хочет, чтобы тот продолжал жить, фантазия, помогающая пациенту обрести власть над терапевтом, как и власть над жизнью и смертью, должна быть подвергнута исследованию и разрешиться в процессе терапии.
Любая попытка самоубийства — удавшаяся или нет — активизирует интенсивную агрессию не только в пациенте, но и в его непосредственном межличностном окружении. Психотерапевт, который отвечает на такие события лишь сожалением и озабоченностью, отрицает свою контрагрессию и подыгрывает динамике пациента. Терапевт должен сочувствовать тяге пациента к самоубийству, в котором есть стремление к умиротворению, восторг от направленной на себя агрессии, желание насладиться местью, желание избежать вины и радость от осознания мощи суицидального импульса. Лишь такая эмпатия позволяет пациенту открыто говорить об этих переживаниях.
Любой род психотерапевтических взаимоотношений, продолжающихся многие месяцы и основанных на нереалистичных условиях — без честного общения и без четко очерченных и обговоренных сфер ответственности обоих участников, — увеличивает суицидальный риск. Бывают случаи, когда психотерапевт, осознавший, что ситуация терапии стала невозможной, должен осмелиться прекратить терапевтические отношения, даже если пациент угрожает самоубийством или пытается сохранить садомазохистические взаимоотношения. Такое окончание терапии не должно осуществляться на основании импульсивного отыгрывания вовне контрпереноса. Оно должно строиться на продуманном плане, в который может входить госпитализация на тот период, когда терапевт покидает пациента, интенсивная работа с семьей или продолжительная консультация терапевта с опытным коллегой. Лучший способ помочь некоторым пациентам — это признать, что ты не в состоянии им помочь, что твой коллега поможет им лучше или что им совсем невозможно помочь на данном уровне наших познаний и терапевтических ресурсов.
Три измерения контрпереноса
Взаимоотношения между контрпереносом и личностью психоаналитика можно рассматривать по меньшей мере в трех измерениях. Первое я бы назвал пространственным или “полем”; оно имеет отношение к тому, что, собственно, и понимается под словом контрперенос. Это поле я изобразил бы как несколько концентрических кругов: внутренние представляют концепцию переноса в узком смысле, внешние — в широком понимании. Второе, временное измерение позволяет отделить острую реакцию контрпереноса от “постоянной”, растянутой на длительное время. Третье измерение представляет тяжесть нарушений у пациента.
“Поле” контрпереноса
Согласно представлениям Эгопсихологии, контрперенос в узком смысле слова есть бессознательная реакция аналитика на пациента (Little, 1951; Reich, 1951). Можно понимать контрперенос еще уже: как бессознательную реакцию на перенос пациента (Kernberg, 1975). Эта концепция соответствует первоначальному смыслу термина контрперенос в психоаналитической литературе и дает верные представления о “слепых пятнах” в понимании материала, связанных с неразрешенными невротическими конфликтами аналитика.
Второй, более широкий круг, опоясывающий первый, вбирает в себя все сознательные и бессознательные реакции аналитика на пациента. Сюда входит и нормальная эмоциональная реакция на перенос пациента и на его реальную жизнь, и эмоции по отношению к ситуации терапии, связанные с реальной жизнью самого аналитика, на которую может влиять пациент. Такое широкое понимание контрпереноса оправдано случаями, когда на ситуацию терапии влияют сопровождающийся глубокой регрессией перенос пограничного пациента, отыгрывание вовне, свойственное вообще всем пациентам с тяжелой патологией характера, а также бессознательное (и сознательное) стремление некоторых пограничных нарциссических и параноидных пациентов к разрушению, которое может представлять угрозу не только для терапии, но и для жизни пациента — или даже аналитика.
Еще более широкий круг включает в себя, кроме всего вышеупомянутого, привычные специфичные реакции данного аналитика на разные типы пациентов, эти реакции создают предпосылки для переноса и основываются на особенностях личности аналитика. Некоторые черты личности активизируются в определенных ситуациях, выполняя как защитные, так и адаптивные функции в ответ на атаку пациента, находящегося в состоянии переноса.
Многие противоречия в вопросах о том, как обращаться с контрпереносом, происходят изза различных определений, которые дают этому термину. Ясное определение, которое включает в себя все пространственное поле феноменов переноса и в то же время четко определяет компоненты данного поля, может разрешить эту проблему.
Временное измерение
С точки зрения времени можно выделить три типа реакций контрпереноса. Первый — острые или кратковременные реакции, которые, в зависимости от определения термина контрперенос, могут зависеть только от переноса пациента или от целостной картины взаимодействия пациента с аналитиком.
Второй тип — длительные искажения контрпереноса: незаметные, постепенно развивающиеся, захватывающие внутреннее пространство искажения установок аналитика по отношению к пациенту, продолжающиеся в течение длительного времени. Как заметил Тауэр (Tower, 1956), часто их осознают лишь задним числом. Обычно они появляются в ответ на определенный паттерн переноса, особенно на ранних стадиях терапии, когда этот паттерн усиливается сопротивлением. Разрешение данного вида переноса с помощью интерпретации может устранить искажение контрпереноса, которое исчезает, как только перенос меняет форму. Аналитик должен настороженно относиться к такими реакциям долговременного контрпереноса, сравнивая свою “особую” реакцию на данного пациента с реакциями на других пациентов.
Наконец, еще более растянутый во времени тип реакций контрпереноса представляет “постоянный контрперенос”, описанный Райх (Reich, 1951), который, по ее мнению (и я с ней согласен), представляет собой проявление патологии характера аналитика. Вряд ли мне нужно говорить о той роли, которую играют в анализе особенности личности аналитика. Позиция технической нейтральности не мешает пациенту видеть и осознавать его внешность, поведение, установки, эмоции. Фактически можно сказать, что пациент вешает ткань переноса на подходящие выступы личности аналитика.
Хотя эти реальные аспекты аналитика ведут к рационализации переноса, они не мешают искать исток переноса в прошлом пациента и не обязательно отражают патологию характера аналитика. Пациенты быстро становятся специалистами по особенностям характера аналитика, и первые реакции переноса возникают в этом контексте. Но делать вывод, что все реакции переноса в своей основе, хотя бы частично, представляют собой сознательные или бессознательные реакции на реальный аспект аналитика, неправильно; такой вывод свидетельствовал бы о неверном понимании природы переноса. Перенос есть именно неадекватный аспект реакции пациента на аналитика. Анализ переноса может начаться с того, что аналитик, оставляя открытой ту возможность, что наблюдения пациента верны, исследует, почему важны именно эти наблюдения и именно в данный момент.
Когда аналитик осознает реальные черты своей личности и принимает их без нарциссических защитных механизмов и без отрицания, такая эмоциональная установка позволяет ему сказать пациенту примерно следующее: “Если вы реагируете на чтото во мне, то чем же объяснить интенсивность вашей реакции?” Но патология характера у аналитика может привести к тому, что перенос пациента начнет разрушать техническую нейтральность. Когда аналитик не может отличить реальность от фантазий о том, как его воспринимает пациент, — работает контрперенос.
Контрперенос и тяжесть патологии пациента
В одной из ранних работ (1975) я описал континуум реакций контрпереноса, начиная от эмоций, которые вызывает у психоаналитика типичный пациент с дифференцированным неврозом переноса, и кончая реакцией на психотика, у которого перенос имеет психотический характер. Реакция контрпереноса на пограничные состояния и на патологический нарциссизм занимает в этом континууме промежуточное положение. Чем глубже регрессия у пациента, тем в большей степени это вынуждает аналитика активизировать свои регрессивные черты, чтобы сохранить контакт с пациентом. Таким образом вовлекается целиком вся личность аналитика. Чем глубже регрессия пациента, тем в большей мере присущие ему патогенные конфликты пропитаны примитивной агрессией, проявляющейся в переносе в виде прямых или косвенных нападений на аналитика. Такие нападения вызывают эмоциональный ответ аналитика, где проявляется, как об этом говорил Винникотт (1949), не только реакция на перенос, но и реакция на взаимоотношения пациента и аналитика в целом. К таким обстоятельствам больше приложима концепция контрпереноса в широком смысле слова. Чем глубже регрессия пациента, тем более всеобъемлющей будет реакция аналитика.
В этих случаях в основные реакции аналитика входят не только потенциальные реакции контрпереноса в узком смысле слова, но и то, что Рейкер (Racker, 1957) называл “комплементарными идентификациями” с объектрепрезентациями пациента, спроецированными на аналитика. Таким образом аналитик обогащает свое понимание бессознательно активизировавшихся интернализованных объектных отношений. В отличие от Рейкера, я бы хотел подчеркнуть, что при комплементарном контрпереносе аналитик может идентифицироваться не только с “внутренними объектами” пациента, но и с его Ярепрезентациями, которые пациент проецирует на аналитика, сам при этом идентифицируясь с интернализованными объектными отношениями.
Активизация примитивных интернализованных объектных отношений в психоаналитической ситуации, когда пациент и аналитик играют взаимно полярные роли, постоянно ими меняясь (поочередно идентифицируясь с Я и объектрепрезентациями), выполняет важнейшие диагностические и терапевтические функции. Чтобы использовать данный феномен для терапии, аналитик должен установить жесткие аналитические рамки, позволяющие контролировать отыгрывание вовне и дающие внутреннюю свободу фантазировать (“мечтать”), чтобы распознать спроецированные пациентом объектные отношения. Аналитик должен также постоянно отделять этот спроецированный материал от своих реакций контрпереноса (в узком смысле слова) и превратить свою интроспекцию в интерпретацию переноса, которая остается “вневременной” до тех пор, пока материал, полученный от пациента, не позволит установить генетическую связь с детством пациента. Другими словами, способность аналитика переносить искажения своих внутренних переживаний под влиянием регрессии переноса у пациента может стать эмпатией к тому, что сам пациент не выносит в себе. Из эмпатии рождается понимание, критически важное для интерпретации переноса.
Гринберг (Grinberg, 1979) предлагал отличать комплементарный контрперенос, когда в ответ на перенос пациента в аналитике активизируются внутренние объектные отношения его прошлого, от “проективной контридентификации”, когда такая активизация проистекает целиком из переноса пациента. Это предложение обогащает анализ реакций контрпереноса. На практике взаимоотношения между внутренним миром пациента и активизировавшимся при развитии контрпереноса внутренним миром аналитика всегда носят комплементарный характер.
Чем тяжелее патология пациента, тем в большей мере он выражает эмоциональную реальность посредством невербального поведения, в том числе через незаметные или грубые попытки контролировать аналитика. Иногда такое поведение несет в себе угрозу границам психоаналитической ситуации (этот феномен мы подробнее рассмотрим в следующем разделе). Такая ситуация не должна порождать распространенную ошибку, когда концепцию контрпереноса расширяют в такой степени, что включают в нее все проблемы аналитика, сталкивающегося с трудными пациентами. Ошибки, происходящие от недостатка опыта или знаний, есть просто ошибки, но не контрперенос.
Контрперенос и трансферентная регрессия
Рассматривая измерения, по которым можно классифицировать контрперенос, в их связи с личностью аналитика, мы можем создать всестороннюю концепцию контрпереноса. Устанавливая связи между бессознательными реакциями аналитика на перенос и всеми его эмоциональными реакциями на пациента, мы увидим, как перенос пациента искажает психоаналитическую ситуацию, а также оценим реалистичные эмоциональные реакции аналитика и его контрперенос в узком смысле слова.
При обычных обстоятельствах патология характера аналитика или какието его личные ограничения не должны влиять на терапию. Но когда аналитик сталкивается с тяжелой патологией пациента, у которого перенос пропитан примитивной агрессией, неизбежен контрперенос в широком смысле слова, а он может активизировать патологические черты характера аналитика. Особенно сильно эмоциональные реакции аналитика отражают особенности его личности в ситуации тупика или негативной терапевтической реакции.
Наиболее хрупким аспектом личности терапевта при таких обстоятельствах является, быть может, его креативность как психоаналитика. Под креативностью я подразумеваю способность с помощью воображения превращать материал, полученный от пациента, в цельную динамическую формулировку или в одну ясную фантазию, в какоето конкретное переживание, дающее новое освещение всему материалу. Творчество психоаналитика тесно связано с его заботой о пациенте и умением видеть позитивные качества последнего, несмотря на его агрессию. Одним из источников творчества аналитика является его способность сублимировать свою агрессию, превращая ее в “проникающий”, проясняющий аспект аналитической техники. Забота, согласно Винникотту (1963), коренится в желании уничтожить агрессию с помощью любви к значимому объекту. Конечно, креативность терапевта выражает и сублимированные аспекты его либидинального отношения к пациенту. Естественно, что пациент направляет свою агрессию именно на эту творческую способность аналитика. Нарциссический пациент, в частности, сосредоточивает на аналитической креативности свою зависть, видя тут источник всего, что он получает от своего аналитика.
Когда аналитик встречается с попытками пациента очернить, нейтрализовать и разрушить его техническое вооружение, его самоуважение и личную безопасность, вера аналитика в свои способности, в то, что он может противостоять агрессии с помощью терпения, понимания и творческой интерпретации, — не отрицая при этом всей серьезности агрессии, заключенной в переносе, — позволяет ему продолжать работу с пациентом и таким образом оставаться хорошим объектом для пациента, несмотря на направленную на него агрессию.
Но забота о пациенте — особенно в периоды интенсивного отыгрывания вовне негативного переноса — также делает аналитика более ранимым. Его стремление сохранить контакт с “хорошим Я” пациента, когда его слова или молчание являются мишенью для насмешек пациента, его желание не только сохранить уважение к пациенту, но и видеть его любовь и то, что можно любить в его личности, — все это требует от аналитика эмоциональной открытости к пациенту. Это, конечно, еще больше подставляет аналитика под огонь агрессии пациента. В аналитической ситуации мы добровольно отказываемся от всего, что может порождать неразумные поступки и чрезмерные требования пациента, — и от защитной замкнутости в себе в ответ на нападение, и от жесткого утверждения своих социальных границ, защищающих нас от садистических атак в обычной социальной жизни.
По тем же причинам угроза невыносимой вины заставляет пациента интенсивнее пользоваться примитивными механизмами проекции, чтобы оправдать свою агрессию. Примитивные же формы проекции, в частности проективная идентификация, есть мощное межличностное оружие, с помощью которого можно “перевалить” агрессию на аналитика. Пациент провоцирует аналитика на ответную агрессию, а потом торжественно пользуется этим как рационализацией, оправдывающей его собственную агрессию. При терапии пограничных пациентов или пациентов с тяжелой патологией характера временами параноидные фантазии об этих пациентах зловещим образом вторгаются в мысли аналитика вне терапии, что отражает фантазии преследования пациента в переносе. Наконец, поскольку аналитик защищает слабое, хрупкое, атакуемое хорошее Я пациента, пациент может проецировать свои хорошие или идеализированные Ярепрезентации на аналитика, почти отдавая их ему “на хранение” и в то же время нападая на них под влиянием агрессии и зависти, которые первоначально пациент направлял на самого себя. Как подчеркивал Рейкер (1968), в таких обстоятельствах существует большая опасность, что пациенту удастся пробудить в аналитике мазохистические тенденции его характера.
В конце концов пациенты с тяжелой хронической регрессией, сопровождающейся господством примитивной агрессии в переносе, или же пациенты с тяжелой негативной терапевтической реакцией, которые постоянно “портят” работу аналитика и его позитивное отношение к ним, неизбежно активизируют в аналитике нормальные нарциссические защитные механизмы, которые охраняют его креативность и самоуважение. Это может еще больше усложнить реакции контрпереноса. По этой причине способность аналитика сублимировать, защищающая и сохраняющая его креативность и самоуважение перед лицом агрессии, может оказаться критически важной для того, чтобы выявить, ограничить и держать в разумных рамках свои реакции контрпереноса.