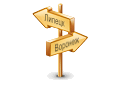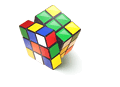Психология пар
Только в заключительной части сеанса я осознал, что стал еще одним обесцененным мужчиной и что олицетворяю всех мужчин, которых гжа Л. вначале идеализирует, а затем быстро обесценивает. Я теперь вспомнил ту тревогу, которую она переживала в прошлом изза того, что я, возможно, не возьму ее в пациентки, ее отчаянное чувство, что я единственный терапевт, способный ей помочь, и те интенсивные подозрения, которые она высказывала на нескольких первых сеансах, что мне просто интересно узнать о ее трудностях, а затем я прогоню ее, поступив как коллекционер редких “экземпляров”. Я решил, что теперь наступило возмездие, заключающееся в обесценивании меня гжой Л., оборотная сторона ее первоначальных опасений, что я буду доказывать свое превосходство и обесценивать ее. И я также подумал, что мои чувства во многом похожи на ее собственное переживание ничтожности и отчаяния, когда она чувствовала себя глупой, необразованной, неспособной соответствовать ожиданиям блестящего мужчины, которым была увлечена. Я также опознал в ее поведении по отношению ко мне позицию молчаливого превосходства и тонко замаскированного обесценивания, с которым ее мать, согласно описанию пациентки, высмеивала ее за то, каких неподходящих мужчин та выбирала себе.
Сеанс окончился прежде, чем я смог разобраться во всех этих мыслях, и я посчитал, что должен поделиться с пациенткой ощущениями молчания и легкого уныния.
То же самое продолжалось и на следующем сеансе, который включал планы по встрече желаемого мужчины из СанФранциско, последние шаги по бросанию нынешнего любовника и новые уничижительные комментарии по поводу “маленького городка”. Теперь я осознал, что во время предыдущего сеанса она даже смогла активизировать во мне некоторую амбивалентность, которую я сам испытывал по поводу этого городка. Только теперь я стал осознавать, что город в переносе также олицетворяет меня, и что и город, и я олицетворяем ее собственный обесцененный образ самой себя, который она проецирует на меня, в то время как сама идентифицируется с надменным превосходством своей матери. Я подумал, что, вероятно, она отыгрывает один аспект своего грандиозного “Я” — идентификацию со своей матерью — в то время как на меня проецирует обесцененные аспекты себя. В то же самое время она подчиняется материнским попыткам подорвать ее шансы увлечься таким мужчиной, который мог бы заботиться о ней. Теперь ко мне вернулось воспоминание о временно забытом фрагменте прошлого сеанса, касающегося страхов, которые она прежде испытывала: будто я помешаю ей уехать уехать из городка изза моей собственной потребности сохранить интересного пациента и моей интерпретации, что этот страх отражает ее ожидание, что я буду вести себя как ее мать, интерпретации, которую она приняла.
Тогда я сказал, что ее образ меня как интеллектуально замедленного, неловкого, непривлекательного, “застрявшего” в уродливом городке человека был ее собственным образом, когда она чувствовала себя критикуемой и атакуемой матерью, особенно если мать не соглашалась с ее выбором мужчин, что ее позиция по отношению ко мне заключает в себе молчаливое превосходство, кажущуюся благожелательность и, однако, незаметное обесценивание, которое она так болезненно переживает, когда оно исходит от матери. Я добавил, что активируя свои отношения с матерью при инверсии ролей, она также должна быть очень напугана, что я буду полностью разрушен и что ей придется убежать из городка, чтобы избежать болезненного разочарования и чувства одиночества, которые придут вслед за разрушением меня как высоко профессионального терапевта. Гжа Л. ответила, что может узнать себя, так же как и в других случаях, когда я говорю о ней, и что она испытывала уныние после нашего предыдущего сеанса. Она сказала, что сейчас чувствует себя лучше, и спросила, могу ли я помочь ей сделать визит мужчины из СанФранциско таким, чтобы он не разочаровался в ней за то, что она живет в столь непривлекательном месте. Она переключилась на зависимые отношения со мной практически без перехода, проецируя при этом надменные, обесценивающие аспекты самой себя в идентификации с матерью на мужчину из СанФранциско.
Гжа Л. иллюстрирует типичную активацию проективной идентификации, включая проекцию невыносимого аспекта самой себя, поведенческое индуцирование соответствующего внутреннего состояния у меня, скрытый контроль за мной посредством унижающего отвержения меня и самоутверждения (что временно делает меня пленником этого спроецированного ею аспекта себя) и ее способность к эмпатии с тем, что на меня проецируется, потому что в другое время это так явно соответствует ее собственным Ярепрезентациям. Моя контртрансферентная реакция иллюстрирует комплементарную идентификацию и, кроме того, мое временное “застревание” в ней — положение, которое Гринберг (Grinberg, 1979) назвал “проективной контридентификацией”.
Мой третий пример, гн М., бизнесмен сорока с небольшим лет, являлся параноидной личностью с пограничной личностной организацией. У него была история психотических эпизодов, спровоцированных алкоголем, которые требовали кратковременных госпитализаций. Как на работе, так и вне ее он был попеременно то заторможен, то подвержен приступам интенсивной ярости. Последние сильно мешали его жизни в обеих сферах. Он был очень заторможен при сексуальных встречах с женщинами, часто был импотентен и обычно подозрителен и недоверчив к окружающим.
Гн М. был старшим из нескольких братьев, сыновей аптекаря, занимавшего видное положение в общественной жизни в маленьком городке, где они жили, властного, сердитого, крайне требовательного, садистского мужчины, который сурово наказывал детей за самые небольшие провинности. Мать пациента была полностью послушной отцу, и хотя она говорила о любви к своим детям, пациент рассказывал, что она ни разу не защитила их от отцовского гнева. Робкая и изолированная от общества, она передоверила заботу о детях своим старшим незамужним сестрам. Некоторые из них жили у них в доме, работая в качестве служанок и отцовских “надсмотрщиц”, и особенно сурово обращались с детьми. Пациент живо помнил пуританские установки по поводу секса. Он чувствовал, что его младшие братья смогли избежать того, что он называл ужасающей атмосферой дома, тогда как он, старший сын, не смог избежать постоянного контроля со стороны отца. Против желания отца он поступил в большую фирму, изготовлявшую сельскохозяйственный инвентарь, но изза своих личных проблем никак не мог подняться выше уровня руководителя среднего звена, несмотря на свою блестящую научную подготовку, прекрасные способности к маркетинговому анализу и лучшее образование по сравнению с другими коллегами, которые уже переросли его.
В переносе гн М. колебался между интенсивными страхами и подозрительностью ко мне, воспринимая меня как садистского отца, и интенсивной идеализацией меня, связанной с гомосексуальными импульсами. Его перенос иллюстрировал классические механизмы расщепления. В течение первых двух лет лечения я интерпретировал его эмоционально противоположные чувства ко мне как отыгрывание его чувств по поводу отца: вопервых, бессознательной идентификации с матерью в ее пассивном подчинении идеализированному отцу, который дает любовь и защиту, и, вовторых, ярости на своего садистского отца. Он постепенно стал способен выдерживать интенсивную амбивалентность по отношению к своему отцу и вполне открыто говорить о своих убийственных желаниях по отношению к нему. Следующий эпизод произошел на третий год лечения.
Гн М. встретил женщину, работавшую в большом комплексе психиатрических учреждений, с которыми я был связан. Впервые он осмелился проявить активность в установлении отношений с женщиной, которая казалась ему внешне привлекательной и была ему социально и интеллектуально ровней. В прошлом он чувствовал себя в безопасности только с проститутками или пребывая в асексуальных отношениях с женщинами. Любой признак увлеченности женщиной, которую он высоко ценил, заставлял его быстро отступать, становиться подозрительным к ее намерениям по отношению к нему и бояться, что он может оказаться импотентом. В нескольких случаях гн М. высказывал фантазию, что я не обрадуюсь, если он увлечется кемто, кто работает в учреждении, связанном с моим. Он выражал подозрения, что я предупрежу эту женщину и буду препятствовать развитию его отношений с ней. Я интерпретировал ему это как выражение эдиповых фантазий, комментируя, что, согласно его взгляду, я являюсь владельцем всех женщин в учреждении и сексуальные контакты с ними запрещены мной как отцом, и он в своей фантазии будет сурово наказан. Я также связал это с его боязнью импотенции с женщиной, которая будет полностью ему подходить.
Через несколько дней после этой интерпретации гн М. вошел разъяренный. Он начал с того, что сообщил мне: он хочет ударить меня по лицу. Он сел в кресло на наибольшем удалении от меня и потребовал полного объяснения. Я спросил: “Объяснения чего?” Он еще более разгневался. После нескольких мгновений нарастающего напряжения, во время которых я действительно испугался, что он может меня ударить, он в конце концов объяснил, что провел вечер с этой женщиной, спросил, знает ли она меня, и та ответила, что, конечно, знает. Когда затем он стал выпытывать у нее информацию обо мне, она стала более сдержанной и спросила его “иронически”, как ему показалось, не является ли он моим пациентом. Тогда он конфронтировал ее с тем, что М. считал фактом, а именно: она все это время знала, что он мой пациент. Тогда женщина еще более отдалилась и закончила вечер предложением “заморозить” их отношения.
Гн М. обвинил меня в том, что я позвонил ей, рассказал о его проблемах, предостерегая от контактов с ним, и это привело к окончанию их взаимоотношений. Моя попытка связать его домыслы с предшествующей интерпретацией, что он воспринимает меня в качестве владельца всех женщин в этом комплексе учреждений и ревнивого стража своих исключительных прав на них, только усилила его гнев. Он сказал, что я бесчестно использую свои интерпретации для отрицания фактов и перекладываю вину за разрыв отношений на него. Теперь он сосредоточился на моей бесчестности. Он потребовал, чтобы я признался, что запретил женщине вступать с ним в отношения.
Ярость пациента была так сильна, что я находился перед реальной дилеммой: или я признаю его сумасшедшие построения как правду, или буду настаивать на том, что они ложны, рискуя при этом подвергнуться физическому нападению. Первоначальные сомнения в том, не воспрепятствуют ли аналитическому процессу параноидные черты пациента, также добавили затруднений.
Набрав побольше воздуха, я сказал гну М., что не чувствую себя свободным говорить так открыто, как я хотел бы, поскольку не уверен, сможет ли он контролировать свои чувства и не действовать под их влиянием. Может ли он обещать мне, что как бы ни сильна была его ярость, он удержится от любого действия, которое может угрожать мне самому или моему имуществу? Казалось, этот вопрос застал его врасплох, и он спросил, значит ли это, что я боюсь его. Я сказал, что, конечно, озабочен тем, что он может напасть на меня физически, и не могу работать в таких условиях. Поэтому он должен обещать мне, что наша работа продолжится в форме вербального общения, а не физического действия, или я не смогу работать с ним на этом сеансе.
К моему большому облегчению, гн М. улыбнулся и сказал, что мне не нужно бояться: он просто хочет, чтобы я был честен. Я сказал ему, что если отвечу ему честно, он, возможно, будет очень злиться на меня. Может ли он обещать мне, что сумеет контролировать свою ярость? Он сказал, что может. Тогда я сказал ему, что знаю эту женщину, но не говорил с ней на всем протяжении его лечения, и что его утверждения были его фантазией, которую необходимо исследовать аналитически. Он тут же снова разгневался на меня, но я уже больше не боялся его.
Выслушав повторное перечисление причин, по которым он поверил, что я причастен к его разрыву с женщиной, я перебил его, сказав, что считаю: он был абсолютно убежден, что я ответственен за это, и добавил, что он сейчас находится в болезненном положении. Он должен либо признать, что я лгу ему, либо признать, что мы в сумасшедшей ситуации, в которой один из нас осознает реальность, а другой нет, и нельзя решить, кто из нас осознает, а кто нет. Гн М. несколько расслабился и сказал, что считает: я говорю ему правду. Он добавил, что по какойто странной причине вся ситуация стала внезапно менее важной для него. Ему хорошо от того, что я испугался и так много рассказал ему.
Возникла довольно длинная пауза, в течение которой я перебирал свои собственные реакции. Я испытывал чувство облегчения, поскольку пациент больше не нападал на меня, чувство стыда, что я показал ему свой страх подвергнуться физическому нападению, и чувство злости по поводу того, что я воспринимал как садистское, без тени раскаяния, удовольствие от моего страха. Я осознавал свою нетерпимость к его удовольствию от садистского отыгрывания вовне, а также был заинтригован тем, почему отношения с этой женщиной внезапно стали менее значимыми.
Я сказал, что только что проявился фундаментальный аспект его отношений с отцом, а именно — отыгрывание отношений между его садистским отцом и им самим как испуганным, парализованным ребенком, в котором я играл роль испуганного, парализованного ребенка, а он — роль своего отца, пребывающего в ярости и испытывающего тайное удовольствие от испуга сына. Я добавил, что признание мной своего страха перед ним изменило его собственное чувство униженности и стыда от того, что отец терроризировал его; а тот факт, что выражение ярости ко мне было безопасно и не разрушило меня, сделало для него возможным вынести собственную идентификацию с разгневанным и садистским отцом. Гн М. сказал, что, возможно, он испугал женщину своим инквизиторским видом, когда стал спрашивать обо мне, и что его собственная подозрительность по поводу ее отношения к нему, возможно, внесла свой вклад в то, чтобы отпугнуть женщину.
Здесь мы наблюдаем проективную идентификацию, проявляющуюся на почти психотическом уровне. Первоначально пациент использует проекцию, приписывая мне поведение, которое совсем не резонирует с моим внутренним переживанием. Затем, пытаясь вырвать у меня ложное признание, он регрессирует от проекции к проективной идентификации, активируя отношение со своим отцом с переменой ролей. В отличие от предыдущего случая, насильственная природа проективной идентификации, видимо, серьезно повлияла на проверку реальности пациентом, и мои усилия по прямой интерпретации проективной идентификации были бесплодны. Принятие мной комплементарной идентификации в своем контрпереносе было не таким регрессивным проявлением с моей стороны, как менее реалистическая контридентификация, упомянутая в связи с гжой Л. В то же время я должен был начинать свои попытки интерпретации, временно отступая от позиции технической нейтральности, устанавливая условия для продолжения сеанса, которые подразумевали ограничения поведения пациента. Только тогда я смог заняться самой проективной идентификацией, прежде всего установив четкие границы реальности или, более точно, оговорив природу двух несовместимых реальностей, которые теперь характеризовали аналитическую ситуацию. Я считаю, что прояснение несовпадения реальностей является первым шагом по облегчению толерантности пациента к “психотическому ядру” его интрапсихического опыта, что является очень хорошим способом обращения с такими тяжелыми регрессиями в переносе. Более того, установление границ реальности также восстанавливает внутреннюю свободу аналитика в работе с контртрансферентными реакциями. Эту технику следует отличать от отыгрывания вовне контрпереноса, хотя разницу иногда трудно уловить. Отыгрывание вовне контрпереноса, вместо уменьшения отыгрывания регрессивного перноса, поддерживает и даже подпитывает проективную идентификацию.
Дальнейшие соображения по поводу техники
Часть моего подхода к интерпретации проекции и проективной идентификации состоит в необходимости для аналитика диагностировать в самом себе те характеристики Я и объектрепрезентаций, которые на него проецируются. Только тогда он может проинтерпретировать пациенту характер этих проецируемых репрезентаций, мотивы непереносимости этого внутреннего переживания для пациента и характер отношений между этой проецируемой репрезентацией и тем, что пациент отыгрывает в переносе. Персекуторный характер того, что проецируется в проективной идентификации, обычно вызывает у пациента страхи перед критикой, нападками, обвинениями или всемогущим контролем со стороны аналитика. Систематические интерпретации этих вторичных последствий интерпретации проективной идентификации могут в дальнейшем способствовать проработке.
Интрапсихическое переживание аналитика при активации проективной идентификации может нарушить аналитический процесс или способствовать ему. Твердое поддержание аналитиком технической нейтральности, избегание коммуникации с пациентом контрпереноса, избегание установления параметров техники, первоначально незапланированные для этого лечения, — все это может увеличить его внутреннюю свободу для фантазирования во время сеансов вместе с пациентом, так же как и за пределами сеансов. Я нахожу последнее особенно полезным для постепенного прояснения и проработки реакций контрпереноса и выработки альтернативных гипотез и стратегий для интерпретации переноса в таких пробных условиях. Для аналитика думать о глубоко регрессировавших пациентах между сеансами является, возможно, здоровым, а не невротическим поведением. Действительно, я считаю, что существенная часть проработки аналитиком собственных реакций контрпереноса может происходить между сеансами.
Когда пограничные личности с нарциссическими и параноидными чертами претерпевают временную психотическую регрессию в переносе, для аналитика может быть необходимым перестать интерпретировать и прояснить текущую реальность ситуации лечения, включая просьбу к пациенту сесть и обсудить с аналитиком в деталях все, что привело к этому параноидному состоянию, как это предложил Розенфельд (Rosenfeld, 1978). Аналитику следует принять в себя проективную идентификацию пациента без интерпретации ее в течение некоторого времени, признавая эмпатию к переживаниям пациента без принятия на себя ответственности за них, таким образом демонстрируя способность переносить агрессию пациента, не разрушаясь под ней, что является выражением функции “холдинга” Винникота (Winnicott, 1960). Аналитик должен непрерывно интерпретировать проективную идентификацию в атмосфере объективности, которая обеспечивает когнитивную функцию “контейнирования” — это подход Биона (Bion, 1968). Наконец аналитик должен установить пределы для отыгрывания вовне, которое может угрожать физической сохранности пациента или аналитика (если эти пределы объективно необходимы), определить, в какой степени в отношениях еще сохраняется проверка реальности (имея в виду, что интерпретация бессознательных детерминант не может проводиться без восстановления общего взгляда на реальность), и анализировать взаимно не совпадающие реальности.
Временами эмоциональная диссоциация аналитика от ситуации, его временный “отказ” от аналитических переживаний могут выступить как дистанцирующее средство, обеззараживающее терапевтические отношения, но ценой потенциального разрушения лечения либо временного или постоянного ухода примитивных переносов в “подполье”. Поэтому такая предохранительная мера несет в себе свои риск и опасность, так же как и преимущества.
Эти различные техники во многом сочетаются друг с другом, но существуют и различия в акцентах. Мой собственный подход использует функции “контейнирования” Биона (Bion, 1968) и “холдинга” Винникота (Winnicott, 1960), Розенфельдово (Rosen¬feld, 1971, 1975, 1980) понимание природы глубоко регрессивных переносов при нарциссической патологии характера и описанные мной техники прояснения реальной ситуации перед дальнейшими попытками интерпретации проективной идентификации.
Я считаю, однако, что избегание Бионом анализа вопросов контрпереноса с тяжело регрессивными пациентами и указание, что концепция контрпереноса должна быть сохранена в ее узком значении и потому должна указывать на патологию терапевта, лишает анализ влияния всего поля контртрансферентных реакций. В Бразильских лекциях (Bion, 1974, 1975) Бион обнаруживает как исключительную чувствительность к регрессивным переносам, так и загадочное отсутствие интереса к реальной ситуации пациента, которое является дополнением его невнимания к контрпереносу. Я считаю, что заинтересованность в пациентах подразумевает преданность, а преданность делает аналитика уязвимым для контрпереноса в широком смысле. Мое конфронтирование пациента с несовместимостью наших взглядов на реальность противоречит рекомендациям Розенфельда (Rosenfeld, 1978) о временном отказе от конфронтирующей и интерпретирующей позиции при параноидных регрессиях.
Проективная идентификация является основным источником информации о пациенте и требует активного использования контртрансферентных реакций для выработки интерпретаций переноса.
11. ПРОЕКТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ,
КОНТРПЕРЕНОС И ЛЕЧЕНИЕ
В СТАЦИОНАРЕ
Проективная идентификация может играть ключевую роль, если она возникает в больничном окружении. Приводимые ниже описания двух пациентов, страдавших от очень непохожих психических заболеваний и проходивших длительное лечение в стационаре, иллюстрируют некоторые особенности больничного лечения при столкновении с различными типами психопатологии.
Лусия
Лусия, незамужняя, около тридцати лет, привлекательная, интеллигентная, но эмоционально нестабильная женщинамузыкант из Латинской Америки, получила образование в США; богатые родители финансово поддерживали ее артистическую карьеру. В прошлом она злоупотребляла наркотиками и алкоголем, у нее было несколько серьезных суицидальных попыток и трудности в межличностных отношениях на работе и с близкими людьми.
Лусия была младшей из трех детей, но родители относились к ней как к единственному и главному объекту заботы. Отец по отношению к ней был скорее соблазняющим, нежели любящим, и находился под контролем матери, явно доминирующей в семье. Мать была очень эмоциональной, экстравертированной, обаятельной, но назойливой; незаметными способами она пыталась контролировать жизнь Лусии, оставаясь безразличной или даже враждебной к ней на более глубоком уровне. Например, Лусия страдала от аллергии, которая не позволяла ей есть определенные сорта сладостей; мать знала об аллергии, но периодически посылала ей упаковки этих сладостей.
Диагнозом Лусии при поступлении были: 1) тяжелое расстройство личности преимущественно с нарциссическими и пограничными чертами; 2) смешанная наркотическая и алкогольная зависимость; 3) депрессивное расстройство с относительно непред¬сказуемым суицидальным потенциалом, связанное с тяжелыми эмоциональными кризисами. В связи с отсутствием успехов при многократных попытках амбулаторной психотерапии были начаты длительное стационарное лечение и одновременная психоаналитическая психотерапия.
С самого начала лечение Лусии имело качество V.I.P. изза большого состояния и социальных связей ее родителей, поэтому и председатель правления больницы, и другие члены правления были заинтересованы в ней гораздо больше обычного. Директор больницы, доктор А., всегда встречался с родителями Лусии, когда те приезжали навестить дочь, что было очень необычным обстоятельством. Более того, доктор А. был не согласен с диагнозом: он считал его слишком “жестким” и был убежден, что Лусия просто инфантильноистерическая больная. Доктор А. сказал психиатру, приставленному к Лусии, что тот слишком критичен к этой не¬ординарной семье. Неудовлетворенный подходом этого психиатра, который он считал слишком жестким, ригидным и упрощенным, доктор А. попросил меня, руководителя нового отделения больницы, взять на себя стационарное лечение Лусии. Он сказал мне, что полагает, что я смогу лучше вести этот случай, так как являюсь выпускником психоаналитической учебной программы, а другие заведующие отделениями, хотя и неоднозначно относятся к психоанализу, уважают больничных психиатров, прошедших психоаналитическое обучение.
Психотерапевт Лусии, доктор С., (с которым она встречалась четыре раза в неделю, в то время как я общался с ней в среднем пятнадцатьдвадцать минут пять раз в неделю) предпочитал продолжать свое лечение совершенно независимо от общего больничного лечения. Он тоже прошел психоаналитическое обучение и был близким другом доктора А. При наших коротких встречах доктор С. общался со мной доброжелательно, но явно как старший коллега с недавним выпускником.
Доктор С. и доктор А. были преподавателями института последипломного обучения психодинамической психотерапии, который я буду называть Институтом. Теоретическая ориентация Института во многом отличалась от моей традиционной психоаналитической ориентации, так что я явно выступал в роли аутсайдера. Однако больничные врачи и персонал считали, что они лучше подготовлены, чем сотрудники Института, для работы с тяжело больными пациентами при длительном стационарном лечении, и относились к Институту несколько неоднозначно. Они считали непостоянно работающих в больнице психотерапевтов Института слишком мягкими, даже наивными при работе с тяжело регрессировавшими пациентами; с их точки зрения, такие пациенты требовали твердости и четкой структуры лечения.
Таким образом, я стал, вначале невольно, представителем философии Института, противоположной философии персонала клиники, представленной больничным психиатром, которого заменил.
Мои отношения с Лусией начались с того, что можно назвать терапевтическим медовым месяцем. Скоро она узнала о моем собственном латиноамериканском происхождении и сказала, что считает меня представителем европеизированной латиноамериканской культуры, что соответствует ее собственному происхождению. Она убеждала меня согласиться, что “ригидность” ее прежнего больничного психиатра, настаивавшего на ее участии в жизни больницы и работе, была необоснованной и непродуктивной. Вместо этого она предлагала собственное ежедневное расписание, в которое включила заочные курсы местного университета, соответствовавшие ее потребностям в образовании и способствовавшие продвижению к получению следующего диплома в области музыки.
Я согласился с таким ходом дела, просмотрел расписание и попросил разрешения немного подумать. Хотя мои отношения с Лусией, казалось, развивались удовлетворительно, случайные замечания других заведующих отделениями и старшего больничного персонала заставляли предполагать, что на проекты Лусии смотрят несколько скептически, считая, что мы с доктором С. являемся объектами ее манипуляции.
Спустя несколько недель материалы для заочных курсов так и не пришли, но Лусия уже давно стала уклоняться от выполнения многих пунктов своего расписания. У нее были придуманные объяснения по поводу пропажи материалов. Вопервых, они потерялись на почте; затем возникло объяснение, что это ошибки больничной почты; третьей причиной стала их задержка в университете. Когда я пошел в больничное почтовое отделение, чтобы выяснить источники задержки, мне сказали, что уже доставили моей пациентке большой пакет.
Когда я уличил Лусию в противоречии между ее уверением, что она не получала пакета, и информацией из почтового отделения больницы, она очень расстроилась, стала обвинять меня в том, что я не верю ей и становлюсь таким же, как и предыдущий больничный психиатр. Она объяснила, что пакет, который она только что получила (и содержимое которого, как она сказала, готова показать мне), был от ее матери.
Поздно вечером мне позвонили домой, так как Лусия пребывала в сильной панике и настаивала на том, чтобы видеть меня. Я вернулся в больницу, где Лусия приняла меня в прозрачном и очень откровенном неглиже. Было очевидно, что она пытается соблазнить меня, и хотя я сохранял самообладание, я сознавал эротические элементы в своих аффективных реакциях. Она сообщила, что просто хотела сказать мне, как была расстроена моим вопросом в тот день, но очень благодарна за то, что я откликнулся на ее звонок, и почувствовала себя лучше, когда я приехал. Она подчеркнула, как важно для нее, чтобы наши отношения были хорошими.
В ту ночь мне снилось, что я нахожусь в больничной палате Лусии, больше похожей на номер гостинницы, и сижу у нее на постели; вся ситуация напоминает любовное свидание. Внезапно с соблазнительной улыбкой Лусия положила свой указательный палец мне в рот, глубоко засунув его, и я проснулся в состоянии сильной тревоги. Когда я лежал, бодрствуя и размышляя о сне, мне внезапно пришло в голову, что то, что она делала со мной во сне, поиспански звучало так: meterme el dedo en la boca (“положи палец мне в рот”). В Чили, где я учился, это был популярный способ сказать: “Я обдурил когото”. Теперь, уже полностью проснувшись, я подумал о комедии ошибок с материалами курсов и решил, что Лусия, вероятно, все время лгала мне.
На следующий день я настаивал на своем убеждении, что она лгала мне, до тех пор пока она не призналась, что получила пакет из университета и выбросила его. После этого Лусия впала в ярость и стала обвинять меня, что это я ригидно настаивал на том, чтобы она прошла курсы, которые ее совсем не интересовали. Я напомнил ей, что пройти курсы было ее инициативой, а я с ней согласился. Я выразил сожаление, что она не способна сказать мне, что не хочет проходить эти курсы, не в состоянии обсудить возможные альтернативы. Лусия, делая вид, что забыла о том, что я говорю, продолжала упрекать меня за навязывание ей идеи учебного плана вместо внимания к ее интересам и работе.
В больнице было стандартным правилом информировать психотерапевта о важных событиях, происходящих с пациентом, поэтому, предупредив Лусию, что собираюсь проинформировать доктора С. о случившемся, я тут же сделал это. Выслушав мой отчет, он сказал мне, что все время знал о проблеме с заочными курсами, но считает, что я преувеличиваю ее важность; кроме того, от этой пациентки следует ожидать некоторого манипулятивного поведения. Мои попытки подчеркнуть серьезность, по моему мнению, ничем не обоснованного обмана со стороны Лусии привели к тому, что он, отбросив церемонии, добавил, что понимает крайнюю тяжесть состояния этой пациентки и считает очень важным понять причины ее потребности вести себя подобным образом в свете того хаотического опыта, который она испытала в детстве. Наш разговор окончился без ощущения взаимопонимания. Я полагал, что доктор С. недооценивает тяжесть патологии СуперЭго Лусии и временного переноса ею своей агрессивной лживости на меня; он думал, что я слишком остро реагирую на это вследствие нарциссической травмы и изза отсутствия достаточного опыта с пациентами такого рода.
В тот же день мне позвонили из офиса доктора А. и сказали, что он хочет встретиться со мной на следующей неделе. Заведующие другими отделениями скоро сообщили мне, что его звонок был результатом жалобы, с которой к нему обратилась Лусия. Теперь у меня возникло странное ощущение, что я становлюсь героем дня в глазах заведующих другими отделениями и старших сотрудников больницы, потому что “противостою” манипулятивному поведению Лусии. Ее лживость была очевидна для них все это время. Я также заметил, не без удовольствия, что меня уже воспринимают как часть больничного фронта, противостоящего Институту.
Доктор А. принял меня очень холодно. Он сказал, что Лусия пожаловалась ему на мое ригидное, навязчивое, “полицейское” поведение по отношению к ее учебе. Он дал понять, что разочарован мной; сказал, что говорил с доктором С., который видит ситуацию так же, как и он. Оба считали, что к Лусии стоит относиться более мягко. Я чувствовал свое поражение и бессилие и почти ощутил облегчение, когда доктор А. сказал мне, что с согласия доктора С., он планирует передать Лусию другому больничному психиатру.
Моей первой реакцией были гнев и разочарование, но когда они прошли, я почувствовал озабоченность, так как считал, что “триумф” Лусии, выразившийся в моем устранении косвенным образом через манипуляции с доктором С. и доктором А., ведет к глубоким самодеструктивным последствиям. При осмыслении этих событий я получил большую поддержку от Клары, старшей медсестры моего отделения, которая рассказала мне, что Лусия всегда вела себя соблазняюще с мужчинам, обладающими властью. Я осознал, что она, безусловно, использовала свои соблазняющие возможности и с доктором А., и со мной. Клара также сказала, что мое отношение к Лусии показало мою наивность; она считала, что этот эпизод обернется для меня хорошим уроком.
Вскоре после того, как Лусия была переведена к другому психиатру, она возобновила прием алкоголя и наркотиков и в конце концов покинула больницу. В течение года больница потеряла всякий контакт с ней и ее семьей.
Обсуждение
То, что я назвал терапевтическим медовым месяцем с Лусией, можно описать в терминах контртрансферентных реакций как мою конкордантную идентификацию (Racker, 1957) с патологическим грандиозным “Я” пациентки, ее характерологической нарциссической структурой. Мой контрперенос, видимо, отражал мое втягивание в роль восхищающегося и поддающегося на подкуп, а также соблазняющего отца.
Но когда я осознал лживость Лусии, моя внутренняя реакция сменилась на подозрительную и преследующую — на комплементарную идентификацию с диссоциированными садистскими предшественниками СуперЭго, против которых и были воздвигнуты ее нарциссические защиты, в то время как она идентифицировалась со своим собственным диссоциированным, униженным и садистически мучимым “Я”. А я, видимо, стал примитивной, садистской репрезентацией матери, в своей жестокой мести разрушающей ее сексуализированные отношения с отцом.
Можно спекулировать по поводу того, что если бы я не так боялся активации своих сексуальных фантазий о ней и в то же самое время осознавал ее нарциссичекую соблазнительность, то я мог бы выдерживать свои сексуальные фантазии, оставаться бдительным к соблазняющему поведению Лусии и сохранять контроль над своим независимым мышлением. Но произошло так, что я был соблазнен назначением доктора А. вступить в своего рода альянс с нарциссическими защитами пациентки, которые ослабили объективность моей позиции по отношению к ней.
Позже, при внезапном изменении моего отношения к ней, я автоматически идентифицировался с антиинститутсткой позицией персонала больницы, так что моя комплементарная идентификация с внутренним “преследователем” Лусии соответствовала моей идентификации с идеологией больницы.
Смена конкордантной идентификации на комплементарную в моем контрпереносе могла быть также связана с внезапной активацией проективной идентификации в защитном репертуаре пациентки. Лусия обманывала меня в течение нескольких недель. Ее нечестность могла рассматриваться как “психопатическая” защита против пугающих ее “преследующих” атак с моей стороны, отражающих проекцию на меня садистской, преследующей объектрепрезентации, наиболее вероятно, преэдипова материнского образа. Ее описание меня как ригидного, навязчивого полицейского было лишено сексуальности и подразумевало в высшей степени эгоистичную, черствую, подозрительную, примитивную, властную фигуру, которая разрушала сексуализированные взаимоотношения с властным мужчиной (отцом).
То, что пациентка могла проецировать на меня преследующую, черствую и манипулятивную мать, при этом попрежнему идентифицируя себя с таким садистским образом (отражавшимся в ее самозащитном, манипулятивном контроле надо мной), указывает скорее на действие проективной идентификации, а не проекции. Что представляет для меня здесь особый интерес, так это связывающая функция моей контртрансферентной реакции: она была ответом как на отыгрывание пациенткой посредством проективной идентификации примитивных интернализованных объектных отношений, так и на отыгрывание больничным персоналом, посредством мощного, хотя и скрытого навязывания ролей или поддержки меня в подчинении доктору А. и Институту в качестве защиты от подспудного бунта против них. Другими словами, патология интернализованных объектных отношений пациентки и латентных социальных конфликтов в больнице “замкнулись” в моей внутренней реакции на границе между пациенткой и больничной системой.
Такой же интерес вызывает, как мне кажется, и “реакция отстранения”, возникшая и у меня, и у пациентки по отношению ко мне, к больнице и в отношении больничного персонала к пациентке. Когда мою пациентку перевели к другому врачу, я почувствовал эмоциональную отстраненность как от Лусии, так и от доктора А. Последующая циничная, почти радостная отстраненность персонала больницы от Лусии, по мере того как ее лечение терпело неудачу (больничный психиатр, заменивший меня, выполнял свои функции довольно формально, и хотя многие сотрудники больницы знали об отыгрываниях вовне пациентки, их информация уже больше не доходила ни до доктора С., ни до доктора А.), была третьей “реакцией отстранения” со стороны больничной системы. Все эти события можно отнести к категории отстраненности для защиты самооценки “пострадавших сторон” — другими словами, защитной нарциссической отстраненности от интенсивного конфликта вокруг враждебности. Эта общая отстраненность больничной системы от пациентки, которая стала особенно драматичной в последние несколько месяцев перед тем, как Лусия в конце концов прервала лечение, может рассматриваться как символическое разложение всей больничной системы ухода за пациентами, который в идеале больница должна была продолжать обеспечивать.
Как будто бы пациентка позволила мне “умереть”, а персонал больницы вместе со мной позволили, в свою очередь, “умереть” ее лечению. Персонал больницы также оставил меня одного: как только мое “поражение” стало очевидным и я был отстранен, ни один из заведующих отделениями не поставил под сомнение решение доктора А. на врачебном совещании и не попытался пересмотреть все клиническое ведение данного случая. Можно сказать, что как только я сослужил службу для больничной идеологии, меня выкинули со сцены и позволили “умереть”.
Что, повидимому, является еще более поразительным, так это повторное разыгрывание патологии семьи Лусии внутри больницы. Огромное богатство семьи создало ситуацию, которая была успешно использована матерью пациентки для поддержания контроля дочери над лечением вопреки ее действительным интересам. Такое развитие событий было продолжением семейной истории, дразнящим соблазнительного, но недоступного отца, контролируемого матерью. “Соблазнение” доктора А. пациенткой, скрытое повторение ее отношений с отцом было разрушено провалом лечения, скрытым последствием воздействия пациентки и ее матери на больничную систему. Контроль семьи над своим собственным миром драматически отразился в самодеструктивной манипулятивности дочери. Их эффективный контроль над больничным миром, аналогично этому, привел к атмосфере разложения и мести и разрушил лечение дочери.
В идеале я должен был бы оказаться способным исследовать преобладающую патологию интернализованных объектных отношений Лусии, как она вновь разыгрывалась в больнице: ее неудачи на работе, ее сексуальная соблазнительность как разложение тех, кто должен был ей помогать, символическое разрушение хороших взаимоотношений с эдиповым отцом изза разрушительного воздействия садистского интернализованного образа преэдиповой матери, проекции садистских предшественников ее СуперЭго на окружающих и ее вторичных защит от преследования посредством нечестности. Патогенные особенности ее детского окружения были, однако, вновь разыграны в ее бессознательном соблазнении доктора С., доктора А. и меня, а также разыграны вновь в групповом процессе большой группы — в больничной среде.
Ральф
Ральф, холостой, двадцати с небольшим лет молодой человек с историей начавшегося в раннем подростковом возрасте поведенческого расстройства, характеризовавшегося прогулами в школе, непослушанием, плохой успеваемостью и жестокими драками с другими подростками и учителями. Это привело к его исключению из нескольких школ. В позднем подростковом возрасте он чередовал периодическое жестокое поведение с длительными периодами устраненности из социальной жизни. Теперь его считали “странным”, он служил объектом насмешек со стороны сверстников и временами демонстрировал очень причудливое поведение и постепенно углубляющуюся изоляцию от социальных контактов. Ральф бросил среднюю школу незадолго до ее окончания, проводил дни и недели в основном в своей комнате, практикуя странные ритуалы, которые пытался скрывать от родителей. Он выражал все большую озабоченность изменениями, которые, как он думал, происходят с его лицом. В конце концов у него развились бредовые идеи о превращении тела и слуховые галлюцинации. Ему был поставлен диагноз шизофрении, и он госпитализировался несколько раз в различные психиатрические больницы на периоды от нескольких недель до нескольких месяцев. На повторяющееся лечение высокими дозами нейролептиков и электрошоком он реагировал так, что мог возвращаться домой и в школу. В эти периоды, однако, он открыто проявлял антисоциальное поведение; был лжив и агрессивен, эксплуатировал и обманывал соучеников и учителей; временами был жесток, снова исключался из школы. Тогда он вновь замыкался в своей комнате и проявлял симптомы психоза.
Ко времени поступления к нам в больницу после по крайней мере восьми лет прогрессивно ухудшавшейся болезни у него был диагноз хронического недифференцированного шизофренического заболевания. В связи с впечатляющим улучшением, которое наступало после лечения нейролептиками и последующим развитием явного антисоциального поведения, за которым следовала новая регрессия в психоз, он рассматривался в качестве редкого случая “псевдопсихопатической шизофрении”.
Отцом Ральфа был зарубежный бизнесмен, разрабатывавший новые методы глубокой переработки мусора. Экологически ориентированные законодатели и бывшие сотрудники на его родине ставили эти методы под вопрос, и в результате длительных судебных тяжб он чувствовал себя озлобленным, загнанным и должен был тратить огромное количество времени и энергии на юридические и политические, а не на деловые вопросы.
Мать Ральфа никогда не возникала как реальный человек в процессе всех взаимодействий больничного персонала с семьей. Она редко (если вообще это делала) навещала своего сына; именно отец в сопровождении юридического консультанта приезжал в больницу для обсуждения планов лечения Ральфа. Кроме своих редких визитов в США, чтобы навестить Ральфа, несколько старших братьев и сестер также оставались в тени и в отдалении на протяжении всего лечения. Отец выражал искреннее чувство безнадежности по поводу лечения Ральфа; он выбрал эту больницу в качестве последней надежды и подразумевал, что хотя у него нет достаточно времени, чтобы участвовать в лечении, он, конечно, будет очень благодарен, если Ральфу помогут.
Это случай, как и случай Лусии, был окружен климатом V.I.P. Аура власти, исходившая от юридических и политических баталий отца, и огромное состояние семьи приводили ко всякого рода слухам и домыслам.
Я был прикреплен к этому пациенту доктором Б., директором больницы, который заменил доктора А. (получившего должность в другом месте) примерно через год после того, как Лусия покинула больницу. Доктор Б. сочувствовал философии больницы в гораздо большей степени, нежели философии Института: он придерживался эмпирического, основанного на здравом смысле подхода к пациентам и скептически относился к приложимости аналитического понимания к больничному лечению.
Он сказал мне, что считает Ральфа очень тяжелым пациентом, который, несомненно, будет вовлекать меня в споры, и он надеется, что я смогу поддержать твердую структуру и избежать вовлечения в состязания подобного рода. Доктор Б. выглядел дружелюбным и общительным и имел репутацию человека, стремящегося избегать конфликтов, а также был очень уступчив по отношению к давлению со стороны председателя и других членов правления больницы. Тогда как доктор А. был авторитетен и даже авторитарен в своем обращении с научными сотрудниками и персоналом, доктор Б. старался, где это возможно, достичь консенсуса. Однако в противоположность своему предшественнику он не оказывал поддержки научным сотрудникам и персоналу, когда влиятельные люди извне оказывали на них давление. Я понял, что в том, что касается Ральфа, я буду иметь всю необходимую больничную поддержку, пока лечение не вторгнется в горячие воды V.I.P.
Первый раз я увиделся с Ральфом у него в комнате. Когда я вошел, он смотрел в зеркало, изучая свое лицо, поскольку, как он объяснил мне, его беспокоили прыщи. Он сказал, что пользуется различными антисептическими кремами для лица, чтобы справиться с дефектами кожи на лице и шее. Я не смог заметить никаких аномалий у него на лице. В комнате стоял легкий прогорклый запах, который, казалось, шел не от Ральфа. Она была заполнена тюбиками с кремами для лица и коробками салфеток, которые он использовал для очистки пальцев и для втирания крема. Использованные и скомканные салфетки валялись на кровати, на стульях и на полу.
Поскольку было непонятно, сможет ли Ральф в достаточой степени дифференцировать психотерапевта от лечащего врачапсихиатра, мне поручили больничное ведение этого случая полностью, включая психотерапию. Клара, старшая сестра, сказала мне, что ее подчиненные спорят по поводу того, как обращаться с Ральфом. Следует ли убирать его комнату и создавать ему распорядок дня, который бы ставил ему ясные задачи, границы и пределы — иными словами, следовать “эгопсихологическому” подходу? Или ему следует позволить регрессировать дальше, усердно исследуя психологическое значение его причудливого поведения, чтобы установить с ним контакт и, в конце концов, привести к окончанию психологической регрессии психотерапевтическими средствами — следовать подходу “Честнат Лодж”*?. История ограниченных улучшений при интенсивном лечении нейролептиками и электрошоком и тот факт, что Ральф переходил к антисоциальному поведению, а не к более адаптивному непсихотическому состоянию, давили на меня тяжелым грузом. Я решил отложить определение лечебной стратегии до тех пор, пока не узнаю о пациенте больше.
Я должен сказать, что первой моей эмоциональной реакцией на Ральфа было отвращение. Я не мог не отреагировать на прогорклый запах, покрытые жиром дверные ручки и стулья в его комнате, и при этом я был вынужден встречаться с ним в его комнате, так как он отказывался ее покидать. На одном из наших первых сеансов, пока я сидел на засаленном стуле, а он на постели, Ральф сказал: “Я кажусь вам довольно отвратительным”, и я потерял дар речи от точности его наблюдения. И поскольку я реагировал на него как испытывающая отвращение авторитетная фигура, то не мог заметить и признать его очевидного удовольствия от игры с грязью, с грязными, липкими субстанциями, с экскрементами. По той же причине я также не был способен связать его удовольствие от игры с грязью и мусором с конфликтом по поводу того, подчиняться ли своему отцу, идентифицироваться с ним или бунтовать против отца, “короля” переработки промышленного мусора в полезные продукты и человека, обвиняемого в загрязнении окружающей среды продуктами своего же производства.
Ральф испытывал ужасный страх, что я войду к нему в комнату, не дав ему времени “приготовиться”. Он просил меня стучать, пока он сам не откроет дверь (что иногда занимало несколько минут) и всегда выглядел испуганным и подозрительным, когда я входил в его комнату. Я думал, что он пытался убрать комнату, перед тем как я войду, или ликвидировать следы какогото странного ритуала, но все мои попытки понять, почему он заставлял меня так долго стучать, только возбуждали тихий странный смех, который я в конце концов определил как иронический и уни¬жающий.
Пока я пытался оценить ситуацию, поведение Ральфа регрессировало все больше и больше; любые усилия сестринского персонала както мобилизовать его вызывали у него сильную ярость. Он был сильным и крупным мужчиной, и женский персонал боялся подходить к нему. Наконец продолжительный ритуал “стучания в дверь” вызвал у меня фантазию, что одной из его функций было стремление выставить меня перед сестринским персоналом как слабого и пугливого. Сестры говорили о Ральфе как о человеке, “предоставляющем аудиенции” только мне и некоторым избранным членам персонала.
Мои попытки помочь Ральфу вербализовать его фантазии и страхи в связи с этими вопросами ни к чему не привели. Он расплывчато и неясно говорил о своем лице и о мешающей назойливости сестер. В конце концов я совместно с сестринским персоналом придумал план лечения, который охранял бы частную жизнь Ральфа в его комнате в течение определенных часов дня, но также включал минимальную пограмму активности (прогулки на природе, участие в простой рабочей группе для регрессировавших шизофреников) на базе регулярного расписания. Его комната должна была убираться так же, как и другие больничные комнаты, за исключением того, что некоторые шкафы оставлялись за ним, чтобы он мог хранить в них то, что хочет, в том числе свои кремы и салфетки.
План стал работать, но с непредвиденными результатами. Специальный сотрудник больницы был приставлен к Ральфу на утренний период активности, другой специальный сотрудник — на вечерний. Оба санитара были проинструктированы и должны были выполнять сходные функции — помогать Ральфу как следует одеваться для прогулки на воздухе и работы и давать ему возможность обсуждать все, что он хочет, относительно его жизни в больнице. Утренний санитар был негр, вечерний — белый. Клара, старшая сестра отделения, была негритянкой, а начальница Клары, главная медсестра больницы — белой женщиной. Ральф быстро сблизился с белым санитаром, который произвел на него (и на меня первоначально) впечатление дружелюбного, общительного, полного энтузиазма мужчины. Ральф также быстро и сильно возненавидел черного санитара, который первоначально тоже производил на меня впечатление дружелюбного, общительного и теплого человека, но постепенно стал вести себя напряженно и заторможенно, когда столкнулся со словесными, а затем и с физическими оскорблениями со стороны Ральфа.
Мы с Кларой думали, что это явный случай расщепления, который требует психотерапевтического исследования, но жалобы пациента на черного санитара достигли кабинета главной медсестры больницы, которая рекомендовала заменить его другим сотрудником. И я, и Клара сильно сопротивлялись этой рекомендации: я думал, что это подкрепит операции расщепления у Ральфа и усилит как его регрессивное всемогущество, так и более глубокие страхи деструктивных последствий своей агрессии. Ситуация еще больше усложнилась благодаря визиту отца Ральфа и развитию дружеских контаков между пациентом, его отцом и белым санитаром, который, по словам Ральфа, предложил полностью взять на себя уход за ним и согласился с тем, что черный санитар действительно ничем не помогает ему. Отец Ральфа поговорил с доктором Б., который, в свою очередь, поговорил с главной медсестрой, и та оказала сильное давление на Клару, чтобы удалить черного са¬нитара.