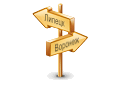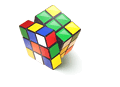Коммуникации переноса
Традиционная кляйнианская тенденция связывать примитивные защитные операции и объектные отношения с первым годом жизни (Klein, 1945, 1946, 1952b, 1957), предположения Кохута о том, что любая хрупкость “Я” имеет ранние детерминанты (Reed, 1987) или, например, постоянный поиск аналитиком Эдиповых детерминант или патологии сепарациииндивидуации приводят в результате к сужению возможного поля интерпретаций и ограничению способности аналитика открывать и исследовать неизвестное. Каналы коммуникации переноса: бессознательные объектные отношения, которые накладываются на нынешние отношения — совместную работу пациента и аналитика во взаимооговоренных границах психоаналитической ситуации — могут представлять либо набор различных бессознательных объектных отношений, находящихся в конфликте друг с другом, либо защитно функционирующие объектные отношения, активирующиеся против нижележащих противоположных отношений, имеющих импульсную функцию. Эти бессознательные объектные отношения могут проявляться через каналы, упомянутые в предыдущей главе. У пациентов с невротической организацией личности и на продвинутых стадиях лечения пациентов с тяжелой патологией характера и пограничной патологией они в основном проявляются через свободные ассоциации пациентов.
Позвольте проиллюстрировать это клинической виньеткой. Г-жа С., архитектор тридцати с небольшим лет, обратилась ко мне из-за хронических трудностей в межличностных отношениях на работе и тяжелой депрессии, связанной с разрывом внебрачной связи со старшим коллегой по бизнесу, которого она описывала как садиста. Диагностическая оценка выявила истерическую личность с сильными мазохистскими чертами. Счастливые отношения с отцом в раннем детстве сменились тяжелыми конфликтами с ним в подростковом возрасте, когда у него возникли серьезные проблемы в браке. Г-жа С. воспринимала свою мать как невинную жертву. Нетерпимая к сексуальности, подавляющая атмосфера в доме была интернализована г-жой С. в качестве ее собственного жесткого вытеснения сексуальных импульсов, продолжавшегося и в течение нескольких лет после начала анализа: она была фригидна с мужем и достигала оргазма только при внебрачных связях.
Через несколько недель после того, как пациентка начала анализ, ее настроение улучшилось; она уже не выглядела депрессивной; теперь она производила впечатление покладистой и послушной маленькой девочки, казалось бы, готовой на то, чтобы сделать приятное аналитику. Было видно, что она изо всех сил старалась говорить все, что приходит ей в голову, и содержание ее первоначальных свободных ассоциаций относилось в основном к ее работе, в особенности к тому, кто занимал более высокое положение и кого она описывала как узколобых, предвзятых, неосведомленных специалистов, которым недоставало оригинального, творческого подхода к проектированию. Пациентка так очевидно дистанцировалась от этих людей, что сама подняла вопрос на сеансе, не рискует ли она потерять работу. Она уже однажды теряла работу в другой фирме в не столь уже отдаленном прошлом изза ее межличностных трудностей.
Когда я отметил, что озабочен тем благодушием, с которым она делилась перспективой своего увольнения, гжа С. признала свое безрассудство, добавив, что ее поведение может быть опасным, но оно также приносит приятное возбуждение. Последующие ассоциации обнаружили ее фантазии о встрече со своим начальником, который строго сообщает ей о том, что она должна уйти, и которому она дает знать путем тонких намеков, что она сексуально заинтересована в нем. В фантазии это приводило к сексуальным отношениям с ним в тот самый момент, когда тот увольнял ее с работы. Она находила это волнующим — заниматься сексом с человеком, увольняющим ее.
Эта виньетка иллюстрирует раннее появление установки маленькой хорошей девочки в переносе в качестве защиты от подспудного искушения к псевдобунтарскому, провокативно агрессивному отношению к мужчинеавторитету, нацеленному на подспудные, страстно желаемые и наказывающие себя сексуальные отношения (предположительно, с образом садистского отца). Тот факт, что явно позитивные ранние трансферентные отношения приводили к возникновению подспудных склонностей к негативному переносу в содержании свободных ассоциаций пациентки, а не непосредственно в самих трансферентных отношениях в действительности, давал нам время для проработки этого бессознательного конфликта до его полной актуализации в реальности или в переносе. Внимание на содержании свободных ассоциаций, на субъективных переживаниях гжи С. было доминирующим коммуникативным каналом, через который патогенные объектные отношения проявлялись в переносе.
У пациентов с тяжелой патологией характера и пограничной организацией личности доминирующие в переносе бессознательные объектные отношения обычно проявляются посредством невербальной коммуникации. Это не означает, что то, что вербально коммуницируется через свободные ассоциации, не имеет значения; скорее невербальная коммуникация становится экономически (т.е. аффективно) доминирующей в сообщении информации аналитику.
Гн Д., специалист в области охраны здоровья, тридцати лет, обратился ко мне изза трудностей в отношениях с женщинами, неуверенности в своих профессиональных интересах и будущем и крайней пассивности в работе и повседневной жизни. На своих первых аналитических сеансах гн Д. погружался в детальные описания ссор, происходивших с его девушкой. Мои попытки прояснить казавшиеся мне спутанными описания этих ссор вызвали ироническое замечание с его стороны, что я медлительный пешеход и не могу уловить тех тонкостей, о которых он мне говорит. Он также ожидал от меня немедленного одобрения его высказываний и поступков в отношениях с девушкой. Я спросил, почему он чувствует потребность в поддержке его поступков по отношению к ней или его оценок. Тогда он злобно обвинил меня в том, что я не сочувствую ему и являюсь традиционным психоаналитиком с непроницаемым лицом игрока в покер.
Вскоре после этого гн Д. начал также жаловаться, что я не даю ему никакого нового понимания, которое позволило бы ему более эффективно вести себя со своей девушкой. Но когда после лучшего уяснения того обстоятельства, что в действительности происходит в их взаимоотношениях, я поставил под сомнение даваемые им интерпретации ее поведения и поинтересовался причинами некоторых из его поступков, он обвинил меня в принятии ее стороны, в необоснованной предвзятости против него и, более того, в ухудшении отношений с ней путем подрыва его чувства безопасности. Он также выдвинул несколько психоаналитических теорий, объясняющих садистское поведение девушки по отношению к нему, указывая мне, что сам обладает несомненно мазохистским характером, и с растущей злобой заявил, что я не делаю своей работы: не провожу связи между тем, что с ним происходит, и его детскими переживаниями.
Хотя моим первоначальным диагнозом гна Д. было наличие тяжелой патологии характера с параноидными, нарциссическими и инфантильными чертами — и я был готов к бурному развитию переноса, — меня застала врасплох интенсивность его жалоб и обвинений, и я стал очень осторожен в своих замечаниях. Он тут же почувствовал мою осторожность и злобно обвинил меня в том, что я отношусь к нему как к “больному”, вместо того чтобы говорить прямо. Затем я сосредоточился на его трудностях в принятии того, что я говорю, если это отличается от его собственных мыслей. При этом я указал на внутренний конфликт, переживаемый им по отношению ко мне: он очень хочет, чтобы я помог ему и перешел на его сторону, и в то же время воспринимает все, что от меня исходит как враждебное и угрожающее или как абсурдное и не имеющее никакой ценности. Гн Д. впервые согласился с моей оценкой ситуации. Он сказал, что очень нуждается в помощи, но столкнулся с некомпетентным и враждебным аналитиком. Тогда я спросил, действительно ли он считает это правдой, ибо если это так, то естественно было бы спросить, почему он выбрал меня в качестве своего терапевта и не поднял этого вопроса. Его реакцией было обвинение в том, что я хочу прогнать его. Я сказал ему, что пытаюсь понять, что он чувствует, и не обязательно должен подтверждать его взгляды относительно меня.
Затем пациент обратился к обстоятельствам, которые заставили его обратиться ко мне и выбрать меня в качестве аналитика после нескольких неудачных опытов с другими психотерапевтами. В ходе этого рассказа выяснилось, что гн Д. был очень польщен, что я принял его в качестве пациента, но чувствовал себя несчастным изза того, что он воспринимал как громадную разницу в нашем статусе. Он сказал, как было для него болезненно обратиться к специалистам, которых он считает представителями наиболее консервативного психиатрического и психоаналитического истеблишмента. Гн Д. обратился ко мне, поскольку я был ему очень хорошо рекомендован, но сейчас он задавался вопросом: не будет ли более полезным для него краткосрочное лечение терапевтом, принадлежащим к “антипсихиатрической” школе. Я предположил, что ему было удобно представлять меня некомпетентным и враждебным, поскольку это позволяло ему сохранять свою самооценку, хотя подобное восприятие моей личности также фрустрировало его желание помощи. Другими словами, я начал интерпретировать его действия вовне, действия выражавшие его потребность обесценить и унизить меня, потребность, отражавшую его диссоциированную зависть ко мне.
С самого начала лечения главным каналом коммуникации бессознательных объектных отношений, активируемых в переносе, было скорее отношение гна Д. ко мне, а не содержание его ассоциаций. Конечно, содержание его вербальных коммуникаций служило важным средством прояснения того, что происходило в его отношениях со мной, но природа поведения гна Д. доминировала при коммуникации.
На поверхностном уровне пациент обесценивал меня как вызывающий восхищение и одновременно завистливо разочаровывающий родительский авторитет, сам будучи грандиозным и садистским ребенком. На более глубоком уровне он бессознательно отыгрывал отношения фрустрированного и разъяренного ребенка с родительским образом, который был ему очень нужен, но так же сильно разочаровывал, так как воспринимался как контролирующий и обесценивающий. Такой взгляд на родительский объект запускал интенсивную ярость, выражавшуюся прежде всего в желании обесценить и разрушить объект, в то время как на более глубоком уровне была бессознательная надежда, что он уцелеет. В действительности потребовалось много недель, чтобы обнаружить эти бессознательные значения того, что происходило “здесьитеперь”. Месяцы спустя мы узнали, что эти объектные отношения отражали бессознательные отношения гна Д. с матерью и что его повторяющиеся неудачи во взаимоотношениях с женщинами следовали паттерну, который был поразительно похож на тот, который описывал его отношения со мной. Все эти женщины олицетворяли мать, как это делал я при отыгрывании переноса.
Существует также третий канал коммуникации, который можно рассматривать в качестве ответвления второго, за исключением того, что невербальная коммуникация выражается в явном отсутствии какоголибо специфического объектного отношения в переносе. Иногда случается, что в течение многих месяцев или даже лет пациент демонстрирует только минимальные признаки трансферентной регрессии и почти полное отсутствие агрессии или либидинальной заряженности переноса. В другом месте я подчеркивал (1984), что такие пациенты применяют незаметные, всеобъемлющие и высоко эффективные трансферентные сопротивления против зависимости от аналитика и связанной с этим регрессии в переносе. Эту ситуацию я описывал в предыдущей главе как сужение аналитического пространства. Говоря конкретно, главными сопротивлениями в лечении становятся отсутствие эмоциональной глубины, эмоциональной реальности и фантазии при аналитической встрече.
Гн Е., около тридцати лет, обратился ко мне изза неудовлетворенности своим бисексуальным стилем жизни и растущей сексуальной заторможенностью. Личность гна Е. обладала сильными нарциссическими чертами и качествами “как бы” личности. Его мать умерла, когда ему было девять лет, и его старшая сестра взяла на себя обязанности хозяйки дома. Данное им описание родителей было расплывчатым и противоречивым. Возникало впечатление нереальности всей рассказанной пациентом истории. У него была поверхностно адекватная социальная адаптация, но чтото в его внешнем облике было искусственным. Он являлся одним из тех пациентов, чьи “безупречные свободные ассоциации” эффективно имитируют подлинный аналитический процесс. Было в нем чтото очень механическое, но я затруднялся связать это впечатление с какимилибо конкретными проявлениями переноса. Подобную же слабую эмоциональную вовлеченность он демонстрировал со своей девушкой, по отношению к которой, несмотря на провокации с ее стороны, он не чувствовал ни малейших признаков ревности.
К третьему году анализа, хотя я был способен поддерживать свой интерес к пациенту, я почувствовал, что он соблазняет меня на странное отсутствие активности, как будто я смотрю театральное представление, которое похоже на двухмерную пленку и не имеет никакой глубины. Пациент, казалось, был не способен признать меня другим, отличным и при этом доступным для него человеком, или признать, что он может присутствовать в комнате не только как фиксатор внешней реальности. В конце концов я решил сосредоточиться на природе и симптомах его постоянной недоступности для меня и моей недоступности для него, которая проявлялась в его позиции на сеансах. Я использовал описанную мной ранее (1984) технику представления, как вел бы себя на определенном сеансе “нормальный” пациент, чтобы сосредоточить внимание на конкретных проявлениях искусственности в отношениях со мной этого человека.
Эффект привлечения мной внимания к “отсутствию” переноса был поразителен: гн Е. стал испытывать на сеансах тревогу. В течение нескольких недель его тревога возросла, и его ассоциации существенно изменились. У него развилась сильная боязнь меня, восприятие меня как когото полностью нереального. В его переживаниях я демонстрировал фасад дружелюбного психоаналитика, покрывавший собой пугающее пустое пространство. Он был один в центре опустошающего переживания себя как поврежденного и дезинтегрированного. Как будто бы его окружали только мертвые объекты.
В течение нескольких недель этот человек превратился из почти полностью неодушевленного робота в брошенного, охваченного ужасом ребенка. Интенсивные примитивные объектные отношения активировались в переносе и в качестве части моей контртрансферентной реакции, конкордантной идентификации (Racker, 1957) с этой репрезентацией “Я”. Вслед за этим развитием в переносе возникли интенсивные амбивалентные отношения с могущественным отцом с проекцией на меня образа садистского, контролирующего, жестокого отца, которому отвратительны сексуальные фантазии и желания пациента. Короче говоря, элементы, ранее представленные плоской мозаикой, теперь приобрели глубину в переносе. Гн Е. драматически иллюстрирует преобладание при коммуникации переноса третьего канала, представленного постоянным, хотя и латентным пространством аналитической встречи.
Перенос, бессознательное настоящее
и бессознательное прошлое
Я подчеркивал, что ключевое значение имеет раскрытие бессознательного значения переноса “здесьитеперь” и полное осознание выражающихся в переносе объектных отношений до того, как делаются попытки реконструкции прошлого. В ходе этого процесса прежде неосознаваемые, отрицаемые, вытесненные, проецируемые или диссоциированные объектные отношения могут стать полностью осознанными и эгодистонными. Только после этого мы можем рассматривать вопросы о генетических детерминантах активирующегося в данный момент бессознательного интрапсихического конфликта и о том, как их интерпретировать пациенту (Sandler and Sandler, 1987).
Первый приведенный нами случай с гжой С. дал нам динамическую информацию, которая, кажется, совершенно естественно отражает мазохистское превращение позитивных эдиповых отношений. Как это характерно для невротических пациентов, связи между сознательно знаемой историей прошлого и бессознательной активацией вытесненных объектных отношений “здесьитеперь” были явными и непосредственными. Тем не менее я избегал любых ссылок на ее отношения с отцом, до тех пор пока гжа С., задумавшись о своей потребности превращать хорошие отношения с мужчиной в плохие, чтобы сексуализировать их, начала ассоциировать о своих взаимоотношениях с отцом в подростковом возрасте.
С гном Д., специалистом в области охраны психического здоровья, я не связывал очень хаотические и сложные действия во¬вне в переносе непосредственно с известными мне аспектами истории пациента: информация, которую он сообщал о своем прошлом, была настолько противоречивой и хаотичной, что было трудно оценить ее реальную ценность. Потребовалось много времени, чтобы прояснить бессознательный смысл того, что происходило “здесьитеперь”; только когда это было проделано, я смог поставить вопрос о том, что именно необходимо исследовать в терминах предпосылок его возникновения и развития.
Динамика отчаянного поиска гном Д. зависимости от опасного и жестоко контролирующего его объекта может подвести теоретиков, придерживающихся разных взглядов, к различным заключениям. Последователь Малер может сделать вывод, что это соотносится с фазой рапрошман (возобновления отношений) процесса сепарациииндивидуации; последователь Кляйн свяжет это с завистью к хорошей или плохой груди; традиционный эгопсихолог будет размышлять об обусловленной чувством вины анальной регрессии от позитивного эдипова конфликта. Но поскольку у меня не было сведений о том, на какой фазе развития возник этот конфликт или к какой стадии регрессировал, я избегал спекуляций на эту тему, до тех пор пока развившаяся бессознательная ситуация “здесьитеперь” стала полностью осознанной и эгодистонной.
Случай с гном Е. показывает явную опасность преждевременных генетических реконструкций. Здесь, даже во время прорыва из долгого аналитического тупика, я удерживался от связывания активирующихся примитивных объектных отношений с любым из аспектов прошлого, до того как он с очевидностью возникал в переносе и свободных ассоциациях пациента.
Таким образом, резюмируя, я сначала пытаюсь выстроить вневременные конструкции бессознательного значения того, что происходит “здесьитеперь”, и только затем, если есть соответствующие для этого условия, пытаюсь осторожно превратить эти конструкции в реконструкции бессознательного прошлого. Аналогичным образом, я пытаюсь избегать генетической ошибки приравнивания наиболее примитивного материала к наиболее раннему, так же как и любого механического связывания определенных типов психопатологии с фиксированными стадиями развития.
Эти три случая также иллюстрируют другой аспект моей техники, а именно: значение тщательного исследования переживаний, возникающих у пациента за пределами аналитического кабинета и в самих аналитических отношениях. Я проводил значительное время с гжой С., исследуя ее отношения с коллегами и начальниками на работе перед тем, как попытался связать этот материал с отношениями со мной — несмотря на то, что я очень скоро заметил, что пациентка вела себя на аналитических сеансах как “хорошая маленькая девочка”.
Мои первые усилия в работе с гном Д. были направлены на прояснение его хаотичных отношений с подругой. Только когда в результате провала всех моих усилий помочь возникло новое понимание происходящего и стало очевидно, что темы, фигурирующие в переносе, приобрели наибольший интерпретативный приоритет, я решил в основном сосредоточиться на его отношениях со мной. Мне пришлось долго ждать, пока я смог связать его отношения с подругой и со мной.
В третьем случае, конечно же, длительная история безуспешных усилий по исследованию как его внеаналитических, так и аналитических взаимоотношений привела к диагнозу, сформулированному мной как сужение аналитического пространства. В метапсихологических терминах, экономические критерии (т.е. поиск областей доминирующей аффективной активации, безразлично, сознательных или бессознательных) должны указывать на то, следует ли сосредоточить интервенцию преимущественно на взаимодействии с пациентом на сеансе или на его внешней реальности (Kernberg, 1984).
Теперь должно быть понятно, что хотя я и уделяю большое внимание бессознательному значению переноса “здесьитеперь”, я не пренебрегаю важностью анализа генетических предпосылок “тамитогда”. В своем акценте на “здесьитеперь” я солидарен с предложениями Гилла. Однако я считаю, что чрезмерное расширение концепции переноса как “амальгамы прошлого и настоящего” (Gill, 1982) размывает различение того, что не относится к “здесьитеперь” и нуждается в объяснении из других источников.
Я думаю, что не следует включать в перенос в качестве его части действительные аспекты поведения аналитика, которые запускают перенос пациента или служат его рационализациями. Для аналитика фобическое избегание признания реальности одного из аспектов своего поведения, замеченного пациентом и вызвавшего определенную реакцию с его стороны, является технической ошибкой. Более того, неспособность аналитика осознавать, что его собственное поведение может бессознательно запускать аспекты переноса, также является технической ошибкой. Я думаю, искажением классической концепции переноса является утверждение, что тот вклад, который аналитик реально вносит во взаимодействие с пациентом, следует игнорировать или отрицать; делать так значит подразумевать, что аналитик безупречно адаптирован и стопроцентно нормален. В одной из предыдущих работ я указывал:
“Пациенты быстро становятся специалистами в распознавании личностных характеристик аналитика, и реакции переноса часто первоначально возникают именно в этом контексте. Но делать заключения, что все реакции переноса в своей глубине, по крайней мере, частично, являются бессознательными или сознательными реакциями на реальность аналитика, значит неправильно понимать природу переноса. Перенос — это неуместный аспект реакции пациента на аналитика. Анализ переноса может начинаться с того, что аналитик “оставляет открытым” вопрос реальности наблюдений пациента и исследует то, почему конкретные наблюдения являются важными в каждый конкретный момент.
Если аналитик осознает реальные особенности своей личности и способен признать их без нарциссической защиты или отрицания, его эмоциональная позиция позволит ему заявить пациенту: “Итак, если вы реагируете на чтото во мне, как нам понять интенсивность вашей реакции?” Но патология характера аналитика может быть такова, что трансферентные реакции пациента на него приведут к разрушению технической нейтральности. Если аналитик не способен различать, реалистически или нереалистически воспринимает его пациент, то это значит, что действует контрперенос” (Kernberg, 1984).
То, что отыгрывается в переносе, никогда не является простым повторением реальных событий прошлого пациента. Я согласен с Мелани Кляйн (Klein, 1952b), предположившей, что перенос исходит из комбинации реальных и фантазийных переживаний прошлого и защит от них. Это еще один способ подтвердить, что отношение между психической реальностью и объективной реальностью всегда остается неоднозначным: чем более тяжелой является психопатология пациента и более искаженной — его психическая структурная организация, тем более косвенными являются взаимоотношения между нынешней структурой, генетическими реконструкциями и источниками развития. Но делать заключение, что реконструкция прошлого невозможна, потому что трудна, и использовать трудность связывания прошлого и настоящего для того, чтобы ставить под вопрос возможность раскрытия прошлого, это отговорки, которые ничем не обоснованы.
Контрперенос, эмпатия, память и желание
Свои взгляды на контрперенос я уже высказал в предыдущих работах (1975, 1984). Здесь я бы хотел подчеркнуть преимущества глобальной или широкой концепции контрпереноса, которая включает в дополнение к бессознательным реакциям аналитика на пациента или на перенос (или, другими словами, в дополнение к переносу аналитика) реалистические реакции аналитика на реалии жизни пациента, на то, как пациент может воздействовать на жизнь аналитика и на перенос. По практическим соображениям все эти компоненты, за исключением последнего, остаются без особого внимания в обычных психоаналитических обстоятельствах.
Очевидно, что если у аналитика осталась серьезная непроанализированная патология характера или существует неблагоприятный взаимный “резонанс” между патологиями характера пациента и аналитика, то перенос аналитика обостряется. Чем значительнее психопатология пациента, чем более регрессивный характер имеет перенос, тем более интенсивны реалистические эмоциональные реакции терапевта на пациента. Именно эта область — реалистические реакции на пациента и их связь с более глубокой трансферентной предрасположенностью аналитика — представляет как потенциальную опасность контртрансферентных действий вовне, так и потенциальную ценность в качестве клинического материала, который подлежит исследованию аналитиком и интеграции в его понимание переноса.
В 6й главе я описал понятия конкордантной и комплементарной идентификаций в контрпереносе, предложенные Ракером (Racker, 1957). С моей точки зрения, комплементарная идентификация в контрпереносе имеет особенное значение при анализе пациентов с тяжелой патологией характера и регрессивным развитием переноса. Посредством бессознательных защитных операций, в особенности проективной идентификации, пациенты способны при помощи незаметных поведенческих коммуникаций вызывать у аналитика эмоциональное отношение, отражающее определенные аспекты собственных диссоциированных “Я” и объектрепрезентаций пациента.
Интроспективный анализ аналитиком своих комплементарных контртрансферентных реакций позволяет ему диагностировать проецируемые аспекты активируемых объектных отношений пациента, особенно тех, которые передаются невербально и путем изменения качества аналитического пространства — привычных, безмолвных отношений между пациентом и аналитиком. В оптимальных условиях понимание аналитиком своего собственного аффективного давления, происходящего из бессознательных коммуникаций пациента в переносе, может вести к более полному пониманию объектных отношений, активирующихся в переносе.
Моя позиция по отношению к активации у аналитика интенсивных эмоциональных предрасположений к пациенту, особенно в периоды трансферентной регрессии, это терпеливое выдерживание своих собственных чувств и фантазий о пациенте и попытки использовать их для лучшего понимания того, что происходит в переносе. Чтобы защитить пациента, я сохраняю бдительность по отношению к тем искушениям, которые могут возникнуть у меня по отыгрыванию этих чувств или сообщению их ему. Несообщение пациенту реакций контрпереноса обеспечивает аналитику свободу в работе с ними и при использовании их в своих интерпретациях.
Близкий к этому вопрос — определение природы того, что проецируется на аналитика и активируется в его контрпереносе. Пациенты могут проецировать Ярепрезентации, отыгрывая при этом объектрепрезентации тех объектных отношений, которые активируются в переносе; или наоборот, могут проецировать объектрепрезентации, отыгрывая соответствующие Ярепрезентации. Эти проекции относительно стабильны у пациентов с невротической организацией личности, но они нестабильны и быстро чередуются у пациентов с тяжелой патологией характера и пограничной организацией личности.
Например, гжа С. заискивала передо мной как объектрепрезентацией ее отца, чтобы защититься от своих импульсов противостояния мне и соблазнения меня на агрессивную и сексуализированную контратаку. У пациентки активировалось несколько относительно стабильных Ярепрезентаций, находящихся под воздействием различных аффективных состояний, так же как и относительно стабильные проекции на меня объектрепрезентаций, бессознательно представляющих отца, в различных аффективных состояниях. Другими словами, мы не “обменивались личностями”.
Но гн Д. демонстрировал быстрое и почти хаотичное чередование “Я” и объектрепрезентаций в своих идентификациях со мной и своих проекциях на меня, отражающих также и различные аффективные состояния. Например, в один момент он проецировал на меня отстраненный, безразличный и отвергающий образ отца, воспринимая меня как доминантного, эгоцентричного, не терпящего никаких взглядов, кроме собственных, и готового гневно отвергнуть его (моего ребенка), осмеливавшегося думать иначе. При этом за минуту перед таким переживанием и минуту спустя после него гн Д. идентифицировал себя с образом такой родительской фигуры и отвергал меня (своего ребенка), заявляя, что он сейчас решил прекратить свой анализ, потому что не может терпеть такого во всем ошибающегося и упрямого аналитика. Его отношение подразумевало, что внезапное прекращение его отношений со мной будет наиболее естественным, и нет никакого риска, что он будет скучать обо мне. Иными словами, между нами в переносе происходил быстрый обмен ролями садистского, пренебрегающего родителя и ребенка, которым пренебрегают и с которым плохо обращаются.
Я думаю, решающее значение имеет то обстоятельство, что аналитик выдерживает быстро чередующиеся, временами полностью противоречивые, эмоциональные переживания, сигнализирующие об активации дополняющих друг друга “Я” и объектрепрезентаций примитивных интернализованных объектных отношений. Способность аналитика переносить такие быстрые перемены в своих эмоциональных реакциях на пациента без отрицания или действий вовне требует нескольких предварительных условий.
Вопервых, аналитик должен сохранять строгие границы места и времени в аналитической ситуации, приватность вне лечебных сеансов и чувство собственной физической безопасности на сеансах.
Вовторых, аналитик должен быть способен выдерживать в качестве части своей эмпатической реакции на пациента активацию примитивных агрессивных, сексуальных и зависимых аффективных состояний в себе самом. Аналитик должен, например, признавать собственную агрессию в контрпереносе (Winnicott, 1949), такую как приносящее удовольствие переживание садистского контроля. Подобное переживание может стать гораздо большей проблемой для аналитика, чем выдерживание, например, сексуального возбуждения.
Втретьих, аналитик должен сохранять достаточную веру в свои творческие способности как часть своей аналитической работы — так, чтобы выдерживать потребности пациента в разрушении своих усилий без реактивной контратаки, обесценивания пациента или отстранения от него. Только если аналитик чувствует себя комфортно с собственной агрессией, он способен интерпретировать агрессию пациента без страха того, что это нападение на пациента или подчинение обвинениям со стороны пациента, что аналитик на него нападает (проявление неспособности пациента выносить собственную агрессию).
Впечатление, которое я получил от исследования клинического материала, представляемого Япсихологами, состоит в том, что они скрыто или явно придерживаются того взгляда, что интерпретация агрессии пациента соответствует атаке на пациента, как будто бы всякая агрессия является “плохой”. Такой взгляд на агрессию способен только подкрепить собственное убеждение пациента, что агрессия — это плохо и что он должен защитить себя от таких “обвинений” любыми способами, которые есть в его распоряжении.
Как я подчеркивал в одной из предыдущих работ (1975), эмпатия поэтому должна включать не только конкордантную идентификацию с эгосинтонным, центральным субъективным переживанием пациента, но также и комплементарную идентификацию с диссоциированным, вытесненным или проецируемым аспектом Яконцепции пациента или его объектрепрезентации.
Бион в работе “Заметки о памяти и желании” (Bion, 1967) подчеркивал важность встречи с материалом пациента на каждом сеансе без предварительных мыслей о динамике пациента (“памяти”) и без определенных желаний относительно материала пациента, его функционирования, его переживаний и без собственных желаний, не имеющих отношения к пациенту (“желания”). Поскольку этот вклад Биона несет в себе косвенную критику формулировок, традиционно распространенных в кляйнианской школе, и призыв быть открытым для нового материала при минимуме аналитических пред¬убеждений, его точка зрения находит хороший прием. Я думаю, однако, что Бион недооценивает важность долгосрочного опыта знакомства аналитика с материалом пациента, понимание аналитического процесса, которое развивается на протяжении недель и месяцев, понимание, которое может стать основой суждений аналитика, при этом не порабощая его.
Моя точка зрения состоит в том, что аналитик нуждается в сохранении чувства преемственности аналитического процесса и, в частности, взгляда на пациента на его поведение и его реальность, взгляда, который выходит за рамки субъективного взгляда самого пациента в каждый данный момент и на каждом данном сеансе, так же как и за рамки собственных “мифов” пациента о предварительной организации его прошлого. Такая система координат (“память”) является дополнением к периодам, когда аналитику приходится выдерживать свое непонимание в ожидании того, что в конце концов появится новое знание. Аналогично, что касается “желания” аналитика, то его терпимость к импульсам, желаниям, и страхам по отношению к пациенту, возникающим на протяжении всего периода работы, снабжает аналитика важной информацией, приходящей ему на ум в течение сеансов и не обязательно порабощающей его.
Хотя многое из того, что я сказал, можно применять при психоаналитической психотерапии с неанализируемыми пограничными и нарциссическими пациентами, я собирался высказать свой общий подход к переносу в контексте стандартного психоанализа с широким спектром пациентов. Мой опыт свидетельствует, что, когда я применяю этот подход к пациентам с невротической организацией личности (см. главу 11), он немного отличается от традиционного эгопсихологического подхода или от других объектноотношенческих подходов. И наоборот, различия между моим подходом и подходом психологии “Я” очевидны, глубоки и глобальны. Что касается регрессировавших пациентов, кажется, однако, что появляются существенные различия между моим подходом и традиционной эгопсихологией, британской школой объектных отношений и техниками объектных отношений интерперсональных психоаналитиков в США.
8. ТЕОРИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЭГОПСИХОЛОГИИ — ТЕОРИИ
ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Одно из наших предположений состоит в том, что результатом психоаналитического лечения являются структурные изменения. Хотя точного общепринятого определения структурных изменений не существует, все в общем согласны, что достаточные симптоматические и характерологические изменения должны иметь глубину и стабильность и быть основанными на существенном переструктурировании личности пациента. Подразумевается, что такое изменение выходит за рамки перемен, являющихся результатом поведенческих манипуляций, “трансферентного излечения”, внушения и плацебоэффекта и других техник, используемых в психотерапии.
Структурные изменения традиционно определяются как существенные изменения бессознательных интрапсихических конфликтов, лежащих в основе образования симптомов. Изменение в подспуд¬ных бессознательных психических структурах обычно отражается в существенных сдвигах равновесия в Эго, СуперЭго и Ид, с существенным расширением системы Эго и соответствующим снижением давления со стороны бессознательных СуперЭго и Ид. Иначе формулируя эту концепцию, можно было бы сказать, что происходит существенная перемена в импульснозащитных конфигурациях с уменьшением защит, ограничивающих Эго переход от вытеснения к сублимации и включение прежде вытесненных производных влечений в эгосинтонное поведение. Концепция структурных изменений относится поэтому не только к стабильности или стойкости поведенческих изменений, но и к существенным переменам в бессознательной динамике, связанным с такими изменениями. Я считаю, что эта концепция поднимает важные теоретические, клинические и исследовательские проблемы.
Традиционное определение структурных изменений, только что данное нами, подразумевает, что характерной для психического функционирования является хорошо дифференцированная трехчленная структура. Мое представление отличается от этого предположения тем, что на основе данных, относящихся к психопатологии пограничных состояний (Kernberg, 1976, 1984), я считаю, что импульсы и защиты необходимо исследовать в терминах паттернов интернализованных объектных отношений — строительных блоков трехчленной структуры. Диссоциация или интеграция этих строительных блоков отражается в характере пациентов, их межличностных отношениях и развитии переноса.
Согласно моему пониманию психопатологии и лечения тяжелых расстройств характера, изменения во внутренней организации Я и объектрепрезентаций подлежат включению в психоаналитическую концепцию структурных изменений. В дополнение к этому возможность того, что структурные изменения могут быть вызваны психоаналитической психотерапией пограничной организации личности — а не только психоанализом — нуждается в исследовании в теоретических рамках, оправданных для широкого спектра психотерапии. Также, если одной из характеристик тяжелой патологии характера является выражение импульсов, которые были скорее диссоциированы, нежели вытеснены, расширение Эго в ходе терапевтического улучшения пограничных пациентов может характеризоваться изменением таких импульсов путем их интеграции (и частичного подавления), а не подъемом их из состояния вытеснения. Такие изменения могут на самом деле возникать как в близких отношениях с некоторыми значимыми другими, так и в переносе. То, что мы наблюдаем, это интеграция Яконцепции пациента и повышение его способности как к реалистическому пониманию этих других людей, так и эмоциональному интересу к ним.
Другой проблемой, относящейся к психоаналитической теории структурных изменений, является путаница между изменениями, отражающими реорганизацию интрапсихических структур (относится ли это к Эго, СуперЭго и Ид или к интернализованным объектным отношениям), и изменениями, отражающимися в реальных поведенческих паттернах. Определение психических структур как процессов с медленным темпом изменения, данное Раппапортом (Rappaport, 1960), повидимому, ведет к концепции структурных изменений, включающих проявления изменений в паттернах поведения. Валлерштейн (Wallerstein, 1986), соглашаясь со Шварцем (Schwartz, 1981), указывает на неоднозначность вопроса о том, что лежит в основе истинных структурных изменений, в отличие от “просто” адаптивных или поведенческих изменений.
Основываясь на эмпирическом опыте, собранном за многие годы (Kernberg et al., 1972; Wallerstein, 1986), я считаю, что стойкие изменения в широкой области психического функционирования могут достигаться при психоаналитической психотерапии и даже при лечении, которое традиционные психоаналитические теоретики назвали бы либо “поддерживающим”, либо “укрепляющим Эго”, а не только при психоанализе. Стойкие поведенческие изменения могут, в свою очередь, оказать глубокое воздействие на баланс конфликтов индивида и, следовательно, на отношения внутри трехчленной структуры и мира интернализованных объектных отношений в целом. В предыдущих работах (Kernberg, 1975, 1984) я сформулировал специфические показания и технические характеристики определенного типа психоаналитической психотерапии, направленного на лечение пограничной организации личности, являвшегося применением психоаналитической теории к категории пациентов, обычно не слишком хорошо реагирующей на стандартный психоанализ. В дополнение к этому я считаю, что существует необоснованное неявное обесценивание в области психоаналитической психотерапии тех глубоких изменений, к которым может привести создание особой терапевтической среды (например, при умелом психотерапевтическом ведении некоторых хронических больных шизофренией).
Если длительное изменение, глубоко влияющее на отношения пациента к себе самому, к окружающим, к работе и к жизни в целом может достигаться такими разными путями, существует ли какойто особый механизм стабильных изменений, исходящих от психоанализа и психоаналитической психотерапии?
Можно возразить, что для пациента результат — это облегчение симптомов и изменения характера, так что если исследование показывает, что психоаналитическое лечение достигло таких изменений, то вопросов, касающихся концепции структурных изменений, можно избежать. Наконец, оценка эффективности психоаналитической техники в достижении улучшений у пациента может быть выполнена независимо от психоаналитических предположений о том, что их вызывает. Но такое избегание проблемы является, конечно же, неудовлетворительным.
Поскольку основной инструмент психоаналитической техники — интерпретация — сосредоточивается именно на динамических взаимоотношениях между импульсом и защитой (и, я бы добавил, на активации бессознательных конфликтных интернализованных объектных отношений, представленных в таких импульснозащитных констелляциях), то концепция и проверка изменений в балансе конфликта занимает центральное место в психоаналитической технике, так же как и в теории, касающейся результатов лечения. Далее, проверка эффективности интерпретаций также включает в себя оценку расширения инсайтов пациента — аффективного и когнитивного осознания им своих конфликтов, его озабоченности ими и использования им этого осознания и этой озабоченности в активной работе над конфликтом.
Более того, исследование того, в какой степени улучшение пациента является результатом концептуальной “индоктринации” со стороны терапевта в противоположность возникновению у пациента новых знаний о себе посредством интроспекции, является ключевым для оценки психоаналитической техники в ее противопоставлении суггестивному или поддерживающему подходам. Короче, концепция структурных изменений, которой мы придерживаемся, влияет на выбор формы и техники лечения. А наша концепция структурных изменений зависит от нашей концепции о структуре психики.
При пограничной организации личности принципиальная аналитическая задача состоит в соединении посредством интегрирующих интерпретаций взаимно диссоциированных или расщепленных частичных объектных отношений, отражающих бессознательные интрапсихические конфликты — так, как они активируются в переносе, путем прояснения, в процессе работы, соответствующих им Я и объектрепрезентаций и доминирующих аффектов.
Надеюсь, что предыдущие главы позволили прояснить, что я считаю принципиальной аналитической задачей работы с невротическими пациентами приведение вытесненных, бессознательных трансферентных значений того, что происходит “здесьитеперь” к полному осознанию, используя свободные ассоциации пациента и интерпретации в качестве главного терапевтического орудия. Я ожидаю, что свободные ассоциации пациента к раскрытому бессознательному значению переноса “здесьитеперь” приведут нас к бессознательному прошлому.
В рамках этой теоретической схемы структурные изменения, являющиеся результатом психоаналитического лечения, отражаются в существенных переменах доминирующих паттернов переноса и в определенных и стойких изменениях в терапевтических взаимоотношениях по мере того, как эти сменяющиеся паттерны переноса разрешаются. Мы обнаруживаем расширение осознания пациентом природы этих проявлений переноса, их бессознательных источников в прошлом и их воздействия на переживания и поведение пациента вне сеансов, так же как и в самой ситуации лечения. С клинической точки зрения, следовательно, общая концепция изменений отражается не в оценке защитных операций пациента или адекватности или уместности выражения его импульсов (таких, как интегрированные агрессивные и сексуальные влечения), но, в первую очередь, в изменении природы объектных отношений, активирующихся в переносе. Два клинических примера проиллюстрируют мои формулировки структурных интрапсихических изменений.
Клинические иллюстрации
Гжа Ф., около тридцати лет, начала психоаналитическую психотерапию 3 раза в неделю изза тяжелого самоповреждающего поведения, хронической манипуляции окружающими и спорадического злоупотребления различными наркотиками в течение предшествующих двенадцати лет. Ее практика прижигания себя сигаретами и суицидальные попытки были таковы, что госпитализация казалась неизбежной. Лечение основывалось на диагностическом заключении, что гжа Ф. обладает пограничной организацией личности с нарциссическими, инфантильными и антисоциальными чертами.
В течение четырех лет часто повторялись следующие паттерны поведения. Гжа Ф. впадала в самоповреждающее поведение, предпринимая суицидальные попытки, как только ее ложь и манипулятивные попытки контролировать других терпели провал. Ложь и манипуляция другими обычно следовали за провалом контроля за ними с помощью провокаций и возбуждения у них чувства вины. Ее провокативное поведение возникало, если ее зависть и обида на других становились невыносимыми. Она была особенно завистлива к способности других людей сохранять автономию и поддерживать значимые, удовлетворяющие отношения, к которым, как она чувствовала, была не способна. Такие последовательности раз за разом разыгрывались в отношениях пациентки со своей семьей и друзьями, так же как и с терапевтом.
Исследование конфликтов гжи Ф. между интенсивной агрессией и неудовлетворяемыми потребностями в зависимости постепенно привели к сдвигу ее коммуникативного стиля с прямого выражения в действии к вербализации ее подспудных боли, ярости и отчаяния. Через несколько месяцев больничного лечения стало возможным перевести ее на амбулаторное лечение. Но, хотя самодеструктивные импульсы пациентки стали меньше угрожать ее жизни (прижигание сигаретами стало более поверхностным, а суицидальные попытки не такими частыми и тяжелыми), ее тенденция лгать и манипулировать другими сохранилась. Эти импульсы находили свое выражение в мстительном и радостном отвержении любого понимания со стороны терапевта. Позже, когда гжа Ф. стала способна к вербализации своих желаний обесценить все идущее от терапевта, ее ложь и другие искажения информации о своей жизни стали проявляться на сеансах в меньшей степени. Одновременно с этим у нее появилась некоторая способность учиться и работать и меньше зависеть от семьи.
Циклы ее поведения, которые первоначально занимали несколько недель или месяцев, постепенно ускорялись, так что их можно было продиагностировать и полностью обсудить за все меньшее и меньшее время, иногда за четыре или пять сеансов. В течение третьего и четвертого года лечения произошло еще большее сгущение и ускорение этих циклов. В то же время на сеансах стало возникать новое содержание — так незаметно, что терапевт смог обнаружить его появление только после ретроспективного анализа материала нескольких месяцев лечения. Гжа Ф. стала выражать примитивные, почти дикие, агрессивные желания: например, ей снилось, что она травит газом стариков в доме престарелых, находясь в сговоре с директором этого дома; и в момент убийства этих людей она продолжает вести дружескую, живую беседу с их родственниками в другом месте, радостно думая о том, что происходит массовое убийство.
Одновременно с этим гжа Ф. начала выражать озабоченность, попрежнему ли терапевт принимает ее, имея в виду эти чудовищные сны и фантазии. Прежние друзья, которых она потеряла много лет назад и к которым чувствовала полное безразличие, вновь возникли в ее памяти, и у нее пробудились чувства к ним. Впервые она почувствовала печаль изза разрушения прежних отношений, потребность в общении и моменты сильного ужаса от собственной враждебности, которую она испытывала к людям.
На одном из сеансов гжа Ф. начала длинный рассказ о подруге, очень понимающей и поддерживающей, которой она сильно пренебрегла. Теперь она решила написать ей письмо с признанием своей холодности и просьбой о прощении. Психотерапевт был поражен. Изза присущих гже Ф. эксплуатирующих паттернов поведения и долгого бессердечия по отношению к другим он вначале почувствовал подозрения, рассеявшиеся только по окончании сеанса. Пациентка решила снова обсудить этот вопрос при первой возможности и сделала это на следующей неделе, заметив, что только ретроспективно осознала, насколько глубоко она изменилась в своем отношении к прежней подруге. Затем гжа Ф. задумчиво сказала, что ей также хотелось бы знать, настолько ли подруга привыкла к ее обычному способу поведения с людьми, что потеряла веру в нее. Она также предупредила терапевта, что ее изменения могут быть “действительны только на данный момент”, что отражало как осознание ею своего изменения, так и тревогу, возникшую благодаря хрупкости этого изменения.
Как будто бы пациентка обнаружила новое расщепление между обычной человечностью, которая дремала в ней, и садистским, тираническим аспектом своей личности, доминировавшим в течение большей части ее жизни. Теперь, на шестом году лечения, ее отношения с людьми изменялись параллельно с развитием заинтересованности и любовных чувств по отношению к терапевту. Исчезла нечестность пациентки в переносе, сгладились ее самодеструктивные тенденции, как только она осознала, что была вынуждена разрушать любую возможность к хорошим отношениям с окружающими, включая свое собственное выживание, посредством этого садистского внутреннего врага.
Второй случай — гн Г., бизнесмен тридцати с небольшим лет, обсессивнокомпульсивная личность со смешанным неврозом, включающим симптомы депрессии, тревоги и подавленной гомосексуальности. Гн Г. начал психоаналитическое лечение изза длительной неудовлетворенности своей повседневной жизнью и работой, проблем в отношениях с женой и двумя маленькими детьми и хронических чувств депрессии. Его семья, друзья и коллеги считали его холодным и отчужденным, и он знал, что несмотря на все свои усилия стать более открытым и общительным, был зажат, неуклюж, ригиден и склонен к перфекционизму. Мастурбация гна Г. сопровождалась гомосексуальными фантазиями, и явное содержание его сновидений также часто было гомосексуальным. Но у него никогда не было реального гомосексуального опыта, и мысль, что он может быть гомосексуалом, приводила его в ужас. Постепенно стало ясно, что желания получить помощь для преодоления гомосексуальных конфликтов и улучшения сексуальной жизни с женой были его истинными мотивами начала лечения. Занимая административный пост в крупной компании, гн Г. боялся давления со стороны подчиненных и очень боялся критики со стороны начальников.