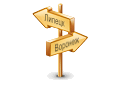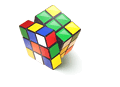Конфликты
Наиболее важные женщины в ее жизни были притягательными, хотя и угрожающими, близкими, хотя и не заслуживающими доверия; мужчины, наоборот, — в особенности три ее мужа — были надежными, но слабыми. Гжа Ж. считала своей заслугой, что ей удалось сохранить хорошие отношения с бывшими мужьями, но из ее рассказа я не понял, чем один отличался от другого. Гжа Ж. испытывала трудности, рассказывая о том, как она видит себя: ей нравилось искусство и его преподавание, но ей также хотелось бы узнать, нет ли в ней чеголибо “фальшивого”; ей была неприятна ее склонность увязать во взаимоотношениях, даже если они казались ей фрустрирующими и порождали конфликт.
На основе всех этих элементов я поставил ей диагноз инфантильной личности, функционирующей в рамках пограничной организации, и предложил психоаналитическое лечение.
Ниже я приведу очень сжатый перечень тем, связанных с моими теперешними задачами. Ее сильная боязнь, что я буду завидовать ее таланту художника, а также раннее проявление переноса отражали проекцию на меня зависти ко мне и к моей профессиональной работе. Пациентка чувствовала, что я представляю собой пример преуспевающего мужчины, которым она восхищается и к которому тянется, но которым никогда не будет обладать — напоминание о ее горьком разочаровании в отце и мужьях. Постепенно она стала осознавать, что ей трудно решить, хочет ли она меня как мужчину или хочет быть такой, как я. Позитивные эдиповы стремления и зависть к пенису наряду с бессознательной идентификацией с мужчиной — объектом зависти — стали главным содержанием первоначального переноса. В качестве первого динамического аспекта ее трудностей в браке проявился бессознательный выбор мужчин, которых она считала ограниченными и не допускала мысли о чрезмерной зависти к ним и соперничестве с ними. Позже мы обнаружили, что гжа Ж. вносила бессознательный вклад в то, что ее муж оставался на подчиненной позиции в бизнесе.
Вторая тема, возникшая очень скоро, отражала взаимоотношения пациентки с другими женщинами. Она активно участвовала в группе женщинхудожниц и близко сотрудничала с несколькими женщинами, имеющими сходные профессиональный опыт и интересы. Она выбирала для совместной работы женщин, которых считала очень агрессивными. Вначале она восхищалась ими и подчинялась им, а затем у нее развивались сильные реакции гнева, и отношения заканчивались ужасными скандалами. Этот паттерн повторялся достаточно часто, чтобы пациентка могла его полностью осознать, а также осознать свою очарованность этими сильными женщинами и свою склонность занимать позицию, в которой они могли бы ее эксплуатировать. Как результат у нее возникало сильное негодование и, как она сама считала, преувеличенно бурные реакции на эту эксплуатацию.
Однако, хотя гжа Ж. могла диагностировать этот паттерн ретроспективно, она не могла выявить его в ходе его развития. Мой интерес к тому, почему она не может осознать этот паттерн в процессе его развития, вызвал у нее сильную тревогу. Гжа Ж. стала испуганно понимать, что для нее трудно дифференцировать собственные реакции от реакций ее подруг.
Меня поразило, что любая попытка связать ее растущее осознание патологического паттерна межличностных отношений в настоящем с прошлым оказывается бесплодной. Подобно тому, как это происходило с гжой Н., все попытки по конструкции или реконструкции заканчивались путаницей или ощущением, что я участвую в стерильном интеллектуальном упражнении. В отличие от гжи Н., гжа Ж. остро осознавала путаницу между собственной мотивацией и мотивацией подруг, а также свой страх, что эта путаница помешает ей понять и себя, и свои трудности и помешает также и мне понять ее. Действительно, во время таких запутанных состояний даже ее вербальное общение на сеансах становилось дезорганизованным. В кульминационные моменты некоторых сеансов гжа Ж. говорила с сильной тревогой, что наиболее важная ее проблема состоит в том, что она в действительности не отличается от других людей, но так глубоко погружена в отношения с ними и находится под таким их влиянием, что не может выделить себя; и она не видит, как бы я мог ей в этом помочь. В конце концов, я сказал ей, что думаю, будто она боится, что я не смогу вынести ее в “неприклеенном” состоянии. Этот комментарий она сочла весьма помогающим. Она почувствовала, что может “погрузиться” в сеансы без ущерба для моей способности к пониманию. Она уже больше не беспокоилась о том, что может спровоцировать меня на ее насильственное “собирание вместе”, которое ограничит ее свободу и сделает искусственным продуктом моего ума.
Затем последовал большой период, когда пациентка стала хаотична в своих комментариях на сеансах, на которых возникали темы, никогда больше не возникающие. Они включали в себя сексуальное возбуждение гжи Ж. в результате кусания и жевания слизистой оболочки и кожи пальцев, а также фантазии садистского нападения на свое тело при контроле этого нападения и способности получать эротическое удовольствие от вызываемой боли. В какойто момент гжа Ж. сама смогла сформулировать фантазию, как будто она участвует в сексуальной перверсии, в которой играет сразу роли и садиста, и мазохиста, испытывая при этом чувство своей униженности передо мной, так же как и униженность в сексуальных отношениях с самой собой, что очень ее возбуждало.
Другой темой, которая в фрагментированном виде проявлялась в эти периоды, была мысль, что она во многом копирует свою мать — в жестах и одежде, или что ее мать имитирует ее, как будто бы между ними существует телепатическое общение. Я должен подчеркнуть, что мне было крайне трудно сформировать у себя реалистический образ матери в течение длительных периодов анализа гжи Ж, — проблема, аналогичная той, что была у меня с гжой Н. Временами гжа Ж. использовала разговорный стиль своей матери, и это было несколько странно: она также использовала с небольшими модификациями материнские кулинарные рецепты, и это обычно приводило к порче блюда. У меня никогда не было ясности, был ли печальный результат вызван гжой Ж. или тем, что ее мать сознательно изменила рецепт.
В конце концов стало совершенно ясно, что бессознательная идентификация пациентки со слишком сильной и опасной матерью может быть устранена только посредством внутренней фрагментации, генерализованной операции расщепления, отражавшей фантазию, что не существует опасности для матери взять верх, поскольку нет человека, над которым она берет верх, так что мать просто напрасно потратит время. А проекция защитного чувства фрагментации гжи Ж. на мать приводила к фрагментации образа матери и служила эффективной защитой от страхов матери. Мы узнали, что страх и озабоченность гжи Ж., будто я могу исчезнуть в те моменты, когда она чувствовала себя фрагментированной на сеансах, были на самом деле активной попыткой убедиться, что я не буду ей угрожать своим вторжением. Мой комментарий, что она боялась, что я не смогу вынести ее фрагментации, поддержал ее, поскольку означал: я признаю ее фрагментацию и говорю, что не смогу ее преодолеть. Другими словами, то, что я описывал как свою толерантность к ее регрессивному состоянию без преждевременного интерпретативного вмешательства, она переживала как защиту от меня, как будто угрожающая примитивная мать пыталась отгородить ее от меня. В дополнение к этому мое собственное чувство спутанности, фрагментированности мышления на многих сеансах, когда пациентка пребывала в регрессивном состоянии, сейчас стало можно понять как результат проецирования ею на меня “угрожаемого Я”, в то время как бессознательно она отыгрывала то, что считала материнским инвазивным, контролирующим поведением.
Прояснение всех этих тем в переносе привело к дальнейшему прояснению трудностей, испытываемых ею в отношениях с женщинами. Пациентка смогла более реалистично оценить и разрешить искушения вовлеченности в невротические взаимодействия с доминантными женщинами. В то же время стали возможны реконструкции ранних взаимоотношений с матерью, особенно их отношений во время фазы рапрошман (возобновления отношений), предваряющей наиболее важную эдипову заинтересованность отцом.
Только тогда инфантильная версия могущественного и страстно желаемого отца начала проявляться изпод развеянных иллюзий и разочарований слабым и фрустрирующим отцом, представлявшим собой более поздний образ, в котором соединились реалистические аспекты детских переживаний и бессознательные эдиповы чувства вины.
Боязнь завистливых атак со стороны матери могла быть также связана с фантазией пациентки о том, что она становится могущественной матерью и, используя контролирующую силу этой могущественной матери, принимает на себя и роль отца, управляя им “изнутри”, и становится ими обоими — могущественной, примитивной отцомматерью. Эта фантазия, в свою очередь, еще более прояснила бессознательную потребность пациентки в выборе мужчин, которых она воспринимала как разочаровывающих, но была способна контролировать различными скрытыми способами. Подобное прояснение привело к изменениям в ее отношениях с мужем и в ее способности поддержать его усилия по улучшению деловой ситуации.
Технические соображения
Возможно, одной из наиболее впечатляющих особенностей, которыми обладают поддающиеся анализу инфантильные личности, которых я лечил или супервизировал, является внезапное развитие трансферентной регрессии — краткой или продолжительной, — которая может быть не замечена сразу, поскольку пациент продолжает свободно ассоциировать, а наблюдаемое поведение на кушетке не претерпевает радикальных изменений. Обычно в контр¬переносе аналитик впервые замечает произошедшие фундаментальные изменения.
Эти изменения состоят во внезапном, диссоциативном сдвиге к такому типу свободных ассоциаций, который является отыгрыванием примитивных отношений в переносе, при их защитном отделении от предшествовавших отношений и, временами, даже от внешней реальности. Как будто бы пациент, обычно функционирующий на невротическом уровне, начинает внезапно функционировать на типично пограничном уровне, со сдвигом от целостных к частичным объектным отношениям, от стабильного чувства идентичности (которое способствует рассказу о прошлых и нынешних объектных отношениях) к состоянию острой фрагментации, которое искажает или прерывает любое общение по поводу значимых объектных отношений, кроме тех, которые отыгрываются в настоящем с аналитиком.
Тогда аналитик чувствует, что вынужден изменить темп работы, резко сфокусироваться на текущих взаимоотношениях в переносе, будучи вынужден признать, что сигналы к этому исходят преимущественно из контртрансферентных фантазий и аффектов, а не из видимого содержания вербального и невербального поведения пациента. Внезапность такого сдвига очень впечатляет и обладает потенциально дезорганизующим воздействием на ана¬литика.
В подобные моменты регрессии возникает впечатление, будто канал переноса (см. гл. 7), представляющий субъективный опыт пациента, и канал переноса, представляющий его невербальное поведение — в переносе, затихают, оставляя только “аналитическое пространство”, относительно постоянную, хотя и не озвученную фоновую конфигурацию взаимоотношений между пациентом и аналитиком, которая позволяет отыгрывать как реалистические, так и фантастические объектные отношения. Последние оказывают непосредственное воздействие на предрасположенность аналитика к тому или иному контрпереносу.
Я обнаружил, что если аналитик теперь попытается продолжить обычный для него тип работы с содержанием свободных ассоциаций пациента, возникнут все увеличивающиеся периоды путаницы. Существует реальная опасность искусственной организации коммуникаций пациента в интеллектуальном ключе, которую пациент бессознательно интерпретирует как вторжение, подчиняющее его. Действительно, само отсутствие драматического отыгрывания вовне, отсутствие коммуникаций, проходящих через невербальный канал действия, ведет к возникновению у аналитика обманчивого впечатления, что он может сосредоточить свое внимание на содержании вербальных коммуникаций пациента. Такое допущение приводит к преждевременным попыткам интерпретаций, в то время как главная тема, проигрываемая в молчаливом пространстве между пациентом и аналитиком, проходит незамеченной.
Клинические характеристики этих состояний регрессии хотя и незаметны, однако оказывают драматическое воздействие на контрперенос аналитика. Пациент может продолжить свободно ассоциировать в форме аффективно заряженных повествований о том, что происходит в его нынешней жизни, или может говорить о прошлом; здесь могут быть ссылки на аналитика, однако без возможности прояснения более глубоких последствий этих чувств для переноса. Наоборот, иногда пациент кажется необычно “здоровым” и “разумным”, а центральное место в чувствах аналитика в течение дней и недель может занимать тема, суть которой состоит в том, что невозможно исследовать то, что говорит пациент или что во всем этом материале нет глубины. Кроме того, опыт научит аналитика, что любые попытки проникновения на более глубокие уровни при использовании ранее полученного знания о бессознательных процессах пациента приведут к странной путанице, которая только повредит усилиям аналитика, направленным на понимание того, что происходит. Темы, которые в конце концов возникают, обычно представляют собой озабоченность пациента, что его хотят подчинить, что его мозги перемешиваются, что аналитик “пропадает” (как следствие проективной идентификации); так что пациент чувствует угрозу быть брошенным.
Только постепенно подспудные примитивные частичные объектные отношения становятся более ясными в контексте быстрой смены отыгрываемых Я и объектрепрезентаций. В психоаналитической психотерапии пограничных пациентов аналитик должен быть готов иметь дело только с бессознательными проявлениями доминирующих объектных отношений “здесьитеперь”, откладывая на потом любую попытку связать бессознательное “здесьитеперь” с его генетическими предшественниками; поэтому аналитик, как это ни парадоксально, лучше подготовлен к работе с такой тяжелой регрессией. Наоборот, при аналитическом лечении инфантильной личности эти регрессии маскируются тем, что пациент внешне остается в рамках аналитического процесса, который показал себя раньше как продуктивный и помогающий, запутывая таким образом — временно или постоянно — аналитика. Массивные действия вовне стимулируют к аналитическому исследованию примитивных интернализованных объектных отношений на специфической арене, независимо от того, происходят ли эти действия с аналитиком или с другими людьми. В тех обстоятельствах, которые я описываю (характерных для пациентов, взятых на анализ, именно потому, что действия вовне у них не столь значительны, чтобы мешать анализу), кажущаяся преемственность аналитического процесса маскирует его подспудную прерывистость.
Часто во время безмолвных регрессий, типичных для этих пациентов, аналитик может чувствовать, что он лечит не настоящий аналитический случай, что речь пациента пуста и нет никакой возможности превратить его коммуникацию в полезный материал; и тогда аналитик может просто отстраниться с чувством беспомощности. Под покровом этой беспомощности аналитик может бессознательно идентифицироваться с проецируемым регрессивным “Я” пациента. У меня была возможность для изучения случаев, когда аналитик прерывал лечение изза возникновения длительных периодов подобного рода. С другой стороны, аналитик, у которого существует сильная убежденность в специфическом генетическом происхождении таких состояний регрессии, может испытывать искушение интерпретировать вербальное содержание в свете своих генетических гипотез, а пациент — представлять материал, соответствующий таким интерпретациям, одновременно бессознательно отыгрывая фантазию, что он попался и что только дальнейшая фрагментация может его защитить.
В действительности главной причиной, по которой возникают эти частые, внезапные регрессии в переносе у инфантильных пациентов, может быть сознательное или бессознательное знание, что аналитик понимает их самих и их чувство, что любое эмоциональное понимание эквивалентно опасному вторжению, подчинению или даже сексуальному проникновению, против которого находится готовая защита в виде отыгрывания трансферентной регрессии.
Главная моя мысль состоит в том, что наиболее подходящий подход к таким периодам — не интерпретировать специфическое вербальное содержание в это время и постепенно подготавливать интерпретацию доминирующих объектных отношений, отыгрываемых в переносе, во вневременном ключе — не пытаясь связать происходящее со специфическим периодом в прошлом пациента.
Анализ того, что происходит бессознательно “здесьитеперь”, при толерантности к тому, что этот материал не связывается с текущей внешней реальностью пациента и с обусловливающими его факторами прошлого, по моему опыту, является наилучшим путем для получения значимой информации, которая в конце концов позволит связать бессознательное прошлое с бессознательным настоящим и другими аспектами внешней реальности пациента.
Описанный мной тип регрессии требует, можно сказать, другого типа слушания со стороны аналитика, или скорее сознавания им того, что каналы коммуникации пациента радикально переключились с вербального и невербального на более скрытый и неосязаемый канал аналитического пространства, на канал имплицитных, но постоянных отношений между аналитиком и пациентом. Коммуникация в этом пространстве доходит до аналитика в первую очередь через контрперенос. Существует, конечно, опасность, что проблемы контрпереноса в узком смысле — исходящие из предрасположенности самого аналитика к тому или иному переносу — могут привести к периоду неудач в понимании. Аналитик должен вначале перенести такой период, а затем посмотреть, не возник ли он в результате активации его собственных конфликтов или изза внезапного и радикального сдвига в характере исходящих от пациента коммуникаций.
Я должен подчеркнуть, как много времени у меня ушло на осознание того, что происходит в каждом из двух представленных случаев; это также справедливо и по отношению к другим пациентам данного типа, которых я лечил. Эти трудности также проявляются при супервизии, когда супервизируемый сообщает о длительных периодах видимой пробуксовки в анализе пациента или о длительных периодах непонимания, когда для супервизора возникает дополнительная трудность в том, чтобы приступить к исследованию контртрансферентных проблем без вторжения в приватность супервизируемого. Тем не менее общая дистанцированность супервизора от материала является в данном случае полезной.
Один из аспектов реконструктивной работы интерпретации, возникающей из опыта с инфантильными пациентами, заключен в том, что реконструкции, включающие регрессивные переносы, можно делать только относительно поздно, после завершения аналитической работы с бессознательным смыслом происходящего “здесьитеперь”, которая выполнялась во вневременном ключе в течение длительного периода времени. Такая конструктивная работа требует, чтобы обработка различных тем, относящихся к области невротических переносов, оставалась незавершенной, прерванной, повисшей в воздухе. Если аналитик способен выносить такую непоследовательность, такие прерывающиеся подступы к прошлому, то в конце концов возникают новые паттерны, поражающие его логичными, почти неизбежными связями между двумя наборами сведений, исходящими из периодов “пограничной” регрессии и периодов более продвинутого или “невротического” функционирования. Только в этом случае у меня появлялась возможность делать связывающие генетические интерпретации.
Тот факт, что в приведенных мной двух примерах доминирующими объектными отношениями, отыгрываемыми в глубокой, хотя и внешне безмолвной регрессии, были бессознательные отношения с аспектом преэдиповой матери, указывает на преобладающую этиологию таких регрессивных состояний, но это не означает, что аналитику следует ожидать или предвосхищать именно данную линию интерпретаций. Есть случаи (например, случай гжи Ж.), когда происходит регрессия к сгущенной отцовскоматеринской фигуре. Нереальность таких регрессий требует значительно большей разработки происходящего “здесьитеперь”, до того как от них можно будет перейти к более реалистическим аспектам родительских образов.
Важно, чтобы аналитическая работа по обычным, интепретативным линиям продолжала выполняться в те периоды, когда пациент функционирует на невротическом уровне. В эти периоды пациенты с инфантильной личностью более явно проявляют свои трансферентные отношения, которые в отличие от частичных объектных отношений имеют целостную природу. Трансферентные отношения можно с большей легкостью связать с другими объектными отношениями во внешней реальности пациента и его прошлом, и поэтому они поддаются конструктивным и реконструктивным попыткам. Важно, чтобы аналитик мог переносить несвязанность аналитической работы в “невротические” периоды и в периоды глубокой, хотя и незаметной трансферентной регрессии.
Тяжелую трансферентную регрессию, которую я описываю, можно спутать с хроническим сопротивлением трансферентной регрессии, столь типичной для нарциссических личностей. Действительно, защитная отстраненность аналитика, чувства нетерпения и скуки, которые в контрпереносе нередко сигнализируют об активации регрессивного переноса у инфантильных личностей, могут быть спутаны со сходными реакциями на нарциссическое сопротивление переносу. Принципиальное отличие состоит в том, что интенсивная, прилипчивая зависимость пациента от аналитика продолжается у инфантильных личностей и в регрессивные периоды, в отличие от чувства дистанции и недостаточной эмоциональной вовлеченности в отношения с аналитиком при нарциссическом переносе.
Природа путаницы, возникающей у пациента, когда аналитик пытается углубить понимание пациентом представляемого им в эти периоды тяжелой регрессии в переносе материала, поднимает другой вопрос. Не сталкивается ли пациент с потерей или размыванием границ Эго, так что он уже не уверен, какие мысли принадлежат ему, а какие — аналитику? И не аналогичная ли путаница нарушает также и мышление аналитика? Или, по моему мнению, не является ли эта путаница следствием интенсивной активации у пациента — а, возможно, и у аналитика — проективной идентификации, так что посредством быстрого чередования проективных и интроективных механизмов происходит обмен реципрокными ролями между пациентом и аналитиком, обмен, который может привести к путанице, кто есть кто, никогда не допуская настоящего слияния между ними? Ситуация, будучи явно противоположной подлинному слиянию в переносе, которое можно наблюдать при психоаналитической работе с психотическими пациентами (гл. 12), почти всегда напоминает второй случай.
Как я уже указывал в одной из предыдущих работ (1975), потерю способности к проверке реальности в переносе, возникающую вслед за активацией проективной идентификации, следует отличать от подлинных переживаний слияния. Последние типичны для психотических, особенно шизофренических пациентов при аналитических типах лечения. Пограничные пациенты, находящиеся в глубоко регрессивном переносе, сохраняют способность дифференцировать себя от терапевта, даже если временно и кажется, что они “обменялись с ним своими личностями”.
Бион (Bion, 1957b) описывает “психотические личности” и как психотические аспекты клинически непсихотических пациентов, и как характеристики шизофренических пациентов в психоаналитическом лечении. Эти психотические личности или аспекты личности демонстрируют преобладание крайне деструктивных импульсов, ненависти к реальности, выражаемых как разрушение способности пациента к осознанию реальности, проективную идентификацию и патологическое расщепление проецируемого материала на отдельные фрагменты, образующие “странные объекты”.
Хотя я и считаю, что Бион недооценивал различия между настоящим психотическим переносом и тяжелой регрессией при пограничной или другой патологии характера, акцент, который он делал на преобладании проективной идентификации и других примитивных защит как на проявлении агрессивных атак на сам аппарат восприятия, соответствует характеристикам трансферентных регрессий, иллюстрации которых я привожу. Но тяжесть этих черт варьирует от случая к случаю. Агрессивные атаки на восприятие реальности, в частности, могут быть довольно ограниченными. Я думаю, что Бион, сводя вместе шизофрению и патологию характера, недооценивал важные различия в их специфических трансферентных регрессиях и, что даже более важно, в их техническом ведении.
Анализ доминирующих во время тяжелой регрессии объектных отношений продвигается очень медленно. Бессознательные фантазии, возникающие в эти периоды, можно прояснить посредством вневременных, “здесьитеперь” интерпретаций, которые я уже описывал. Обычно такие регрессивные трансферентные взаимоотношения проявляются при быстром обмене ролями между “Я” и объектом — при быстром переключении между моментами, во время которых пациент идентифицируется с собственным “Я” и проецирует свою объектрепрезентацию на аналитика, и другими моментами, во время которых пациент идентифицируется со своей объектрепрезентацией и проецирует Ярепрезентацию на аналитика. Оба клинических случая иллюстрируют это быстрое переключение. Напротив, в периоды “невротического” переноса такие переключения происходят медленнее и не так часто.
Колебания гжи Н. между идентификацией с “ведьмой” и проекцией образа ведьмы на меня иллюстрирует этот процесс. Гжа Ж. вместе со мной попеременно отыгрывали обе стороны инвазивной натуры могущественной, всеобъемлющей матери в отношениях с защитно фрагментированным ребенком. Это быстрое чередование частичных объектных отношений типично для пограничной организации личности. В ходе анализа таких частичных объектных отношений в переносе можно постепенно интегрировать взаимно отщепленные частичные объектные отношения и таким образом привести к интеграции “Я” и к интеграции репрезентаций значимых других, и вместе с этим к константности “Я” и константности объекта. Консолидация константности объекта, в свою очередь, имеет тенденцию подкреплять и далее прояснять природу как преэдиповых, так и эдиповых конфликтов. Оба случая иллюстрируют также, как первоначальный анализ эдипова материала может быть углублен в дальнейшем, после проработки трансферентной регрессии.
С теоретической точки зрения, кажется, что нет ничего необычного в защитной регрессии в переносе от эдипова к преэдипову периоду развития. Интересно, однако, что регрессия в этих случаях является структурной, отражающейся в активации в переносе синдрома размывания идентичности. В этих случаях, как это обычно происходит в психоаналитической психотерапии неанализабельных пограничных пациентов, развитие переноса колеблется резко и быстро между продвинутым, или “невротическим”, и регрессивным, или “пограничным” переносами.
Опасности, с которыми встречается аналитик при лечении пациентов, у которых происходят такие радикальные, драматические сдвиги в способах их коммуникации, состоят в следующем: вопервых, оставаясь исключительно на невротическом уровне регрессии при обычном развитии переноса, которое объединяет этих пациентов с обычными аналитическими случаями, можно потерять связь с более глубокими и примитивными уровнями развития. Как следствие, лечение может зайти в тупик, поскольку не будут меняться основные структуры характера, и эти пациенты могут снова и снова удивлять странными, иногда насильственными действиями вовне и недостаточной интеграцией в своей внешней жизни, которые, кажется, подрывают всю выполненную аналитиком работу. В этих условиях аналитик может прийти к заключению, что имеет дело с пациентом с базовой слабостью Эго, без настоящего понимания, с очень ранними дефицитами, которые невозможно восполнить, и т.д.
Вовторых, если аналитик остается на уровне тяжелой регрессии в переносе, без того, чтобы быть достаточно гибким и возвращаться к анализу обычных невротических конфликтов, существует опасность потери контакта со здоровыми аспектами функционирования пациента, опасность либо сохранения знаний о примитивном функционировании пациента в подвешенном состоянии, не связанном с более здоровыми уровнями функционирования пациента, либо “индоктринации” пациента интерпретациями на примитивном уровне, которые минуют более здоровые уровни функционирования и мешают пациенту в интеграции примитивного с более развитым, более фантастического с более реалистическим уровнем его психики. Некоторые бесконечные анализы, в которых пациент кажется почти искусственно регрессировавшим изза постоянного примитивного уровня речи и вмешательств аналитика (поэтому он остается странно нереалистичным в своем повседневном функционировании), могут иллюстрировать опасность потери полной интеграции конфликтов пациента как части психоаналитической техники. В некоторых случаях развивается хроническая психотическая трансферентная регрессия, которая распространяется и на обычную жизнь пациента.
Я считаю, что предлагаемый мной технический подход может расширить область показаний к психоаналитическому лечению тяжелых расстройств личности.
Часть IV
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ТЯЖЕЛОЙ РЕГРЕССИИ
10. ПРОЕКЦИЯ И ПРОЕКТИВНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ: РАЗВИТИЕ
И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Термин проективная идентификация, первоначально описанный Мелани Кляйн (Klein, 1946, 1955) и развитый Розенфельдом (Rosenfeld, 1965) и Бионом (Bion, 1968), как и другие психоаналитические понятия, стал расплываться, поскольку его поразному определяли разные авторы. С моей точки зрения, проблемы с существующим определением возникли, по крайней мере частично, потому что исследовались различные категории пациентов — например, шизофреники (Ogden, 1979) или пограничные пациенты — и изза неспособности дифференцировать защитные операции, общие структурные характеристики пациента и контрперенос.
Я считаю, что этот феномен (как я определил его в 1975 г.) крайне полезен клинически, особенно когда он рассматривается наряду с механизмом проекции. Проективная идентификация — это примитивный защитный механизм. Субъект проецирует невыносимое интрапсихическое переживание на объект, сохраняет эмпатию (в смысле эмоционального сознавания) с тем, что проецируется, пытается контролировать объект в постоянных попытках защититься от невыносимого переживания и бессознательно, в реальном взаимодействии с объектом заставляет объект переживать то, что на него проецируется.
Проекция как таковая — это более зрелая форма защиты, состоящая, вопервых, из вытеснения невыносимого переживания, проецирования его затем на объект и, наконец, отделения и дистанцирования себя от объекта, чтобы укрепить защитные усилия.
Проекция обычно наблюдается в защитном репертуаре пациентов с невротической организацией личности. В ситуации лечения истерическая пациентка, испытывающая страх, что аналитик проявит к ней сексуальный интерес, не осознает собственные сексуальные импульсы или возможность того, что передает эти импульсы невербальными средствами, так что ее “страх” сексуального интереса со стороны терапевта, возникающий в сущности в неэротической атмосфере, иллюстрирует механизм проекции. Пациенты с пограничной организацией личности могут использовать как проекцию, так и проективную идентификацию, но последняя явно доминирует в защитном репертуаре и ситуации переноса. Пациенты с психотической организацией личности (для которых характерна, в первую очередь, потеря проверки реальности) обычно используют проективную идентификацию как преобладающую защиту. Психотические пациенты, проецирующие, например, гомосексуальные импульсы, которые они не осознают при некоторых разновидностях бреда преследования, или пациенты, не осознающие собственные эротические желания и вызывающие эротические чувства у аналитика, встречаются гораздо реже, чем это раньше предполагалось в литературе. Коротко говоря, хотя пациент может применять как проекцию, так и проективную идентификацию, проекция типична для более высокого уровня функционирования, тогда как проективная идентификация типична для пограничной и психотической организации личности.
Одним важным вопросом, который путает карты при попытке определить проективную идентификацию, является та степень, в которой это представляет собой именно “психотический” механизм. Если иметь в виду психотическое как синоним примитивного, что, с моей точки зрения, необоснованно, то проективная идентификация не является обязательно психотической. Только если интернализованные и внешние объектные отношения осуществляются в условиях размытости Я и объектрепрезентаций и недостаточной дифференцированности между собой и другими, такие объектные отношения могут быть обоснованно названы психотическими.
Ранее (гл. 2) я описывал, как пациенты с психотическими объектными отношениями используют проективную идентификацию в отчаянной попытке предотвратить свое сползание к внутренней путанице по поводу дифференциации себя и объекта. В таких обстоятельствах проективная идентификация позволяет локализовать агрессию вне себя. Напротив, человек с пограничной патологией использует проективную идентификацию для поддержания расщепления между полностью хорошим и полностью плохим состояниями Эго. Проективная идентификация, таким образом, необязательно основана на недостаточной дифференциации между Я и объектрепрезентациями (хотя может возникать в таких условиях) и необязательно вызывает потерю дифференциации между Я и объектрепрезентациями, хотя временно ослабляет проверку реальности у пограничных пациентов.
Моя концепция проективной идентификации подкрепляется собственными клиническими наблюдениями результатов интерпретации этого защитного механизма пациенту. Психотический пациент станет временно более спутан, и его проверка реальности будет ослаблена; пограничный пациент отреагирует улучшением проверки реальности, пусть даже временным.
Проективная идентификация, таким образом, это примитивная защитная операция, но она не обязательно связана с психозом. Она преобладает при психозах, где сопровождается потерей проверки реальности и, со структурной точки зрения, потерей границ между Я и объектрепрезентациями. При пограничной организации личности проективная идентификация сопровождается сохранением проверки реальности, структурно подкрепляемой дифференциацией Я и объектрепрезентаций, и позволяет использовать определенные терапевтические техники, чтобы работать с ней интерпретативно, что в результате приводит к улучшению проверки реальности и усилению Эго пациента. Проективная идентификация играет относительно маловажную роль при неврозах (кроме случаев, когда пациент временно переживает тяжелую регрессию) и в большинстве случаев замещается проекцией.
Взгляд с точки зрения развития
Я предполагаю, что линия развития защит ведет от проективной идентификации, основанной на структуре Эго, которая образуется благодаря расщеплению (примитивной диссоциации) как главной присущей этой структуре защите, к проекции, основанной на структуре Эго, образованной вытеснением как базовой защитой. В целом я считаю возможным проследить линии развития и для других типов защитных операций. Например, мы можем наблюдать линию развития примитивной идеализации, при которой происходит расщепление между идеализированными и преследующими объектами, к идеализации, типичной для нарциссической личности (при которой идеализация себя, эгосинтонная или проецируемая, является другим полюсом обесценивания), к идеализации, типичной для невротической организации личности, отражающей реактивные образования против вины, и, наконец, к нормальной идеализации как части экстернализации интегрированных аспектов Эгоидеала. (Нормальная идеализация, например, играет важную роль, когда человек влюбляется.) Аналогичным образом, отрицание, как его определяет Якобсон (Jacobson, 1957a), основанное на примитивной диссоциации противоположных состояний Эго, может рассматриваться как примитивная форма возражения (ne¬gation) более прогрессивного механизма, основанного на вытеснении и являющегося обычной невротической защитной операцией. В другой области защит примитивная интроекция (когда субъект не способен дифференцировать Я и объектрепрезентации) может рассматриваться в качестве предшественницы проекций, которые возникают в связи с идентификационными характеристиками более развитых стадий развития Эго и СуперЭго. Коротко говоря, преобладание расщепления или вытеснения в качестве главного средтсва защиты определяет, доминирует ли проективная идентификация или проекция.
Если проективная идентификация подразумевает, что у субъекта есть способность к дифференциации “Я” от “неЯ”, то можно предположить, что субъект уже достиг определенного уровня развития до того, как проективная идентификацмя стала действовать. Я считаю, что должны выполняться два условия. Поскольку проективная идентификация подразумевает фантазию — а для того чтобы фантазировать, мы должны допустить возможность замены одного элемента другим и манипуляции в направлении желаемой цели, — то должна присутствовать способность к символизации. А поскольку желание состоит в том, чтобы переложить на другого нечто нежелательное для самого субъекта, то должна существовать способность к осознанию не только разницы между собой и другим, но и к осознанию того, что человек чувствует, — его субъективного состояния. Только если мы можем осознать определенное субъективное переживание как нежелательное по сравнению с другими субъективными состояниями, имеет смысл избавиться от него. Такие способности, видимо, возникают к тому моменту, когда ребенок достигает пятнадцати месяцев (Stern, 1985).
По причинам, которые я подробно изложу ниже (см. также гл. 1), я считаю, что ядерные психические репрезентации “Я” и объекта образуются, когда младенец стимулируется сильными удовольствием или болью, а не тогда, когда он находится просто в спокойном бодрствующем состоянии.
Результаты научения во время пиковых аффективных состояний отличаются от результатов научения во время состояний спокойного бодрствования. В последних у младенца нет желания раствориться или отделить себя от другого; следовательно, темы границ не возникает. Но переживания во время пиковых аффективных состояний провоцируют как слияние, так и дифференциацию. Если это состояние сильного удовольствия, в данном случае младенец хочет слиться с тем, кто доставляет ему это удовольствие. Если это аффективное состояние сильного неудовольствия или боли, тогда желание младенца избавиться от боли провоцирует дифференциацию. Проективная идентификация является главным защитным механизмом обращения с невыносимой психической болью во время пиковых негативных аффективных состояний, когда самоощущение и символизация уже не действуют.
Проекция, в отличие от этого, требует достижения более высокого уровня развития, при котором четкая дифференциация между репрезентациями “Я” и объекта и между “Я” и внешними объектами сопровождается чувством непрерывности переживания себя в условиях противоположных эмоций. Это подразумевает способность выносить амбивалентность и переживать чувство непрерывности — “категориальное Я” философов. Самоощущение и самосознание теперь покрывают не только меняющийся со временем субъективный опыт, но и субъективное “Я” как нечто стабильное, по сравнению с которым оценивается любое субъективное состояние.
Проекцию можно рассматривать как “более здоровый”, более адаптивный исход проективной идентификации, по крайней мере на ранних стадиях интеграции Яконцепции и консолидации барьеров вытеснения. Но, в конце концов, проекция имеет дезадаптивные последствия, поскольку в результате происходит искажение внешней реальности.
Технический подход
Как я писал выше (гл. 7), у аналитика есть два канала информации — вербальный и невербальный — относительно субъективных ощущений пациента. Третий канал образуется эмоциональной атмосферой аналитической ситуации, в основном передаваемой контрпереносом аналитика. Аналитик при обычном развитии переноса переживает временные конкордантные и комплементарные идентификации с пациентом (см. гл. 6). Хотя все пациенты выражают информацию невербальными средствами, но чем глубже патология пациента, тем сильнее преобладание невербального поведения. Проективная идентификация вступает в действие в качестве невербальных аспектов коммуникации пациента и диагностируется через активацию у самого аналитика мощных аффективных состояний, отражающих то, что проецирует пациент, и его внимание к межличностным последствиям поведения пациента.
Когда преобладает вербальная коммуникация субъективных переживаний, то проективная идентификация менее очевидна, труднее обнаруживается, поскольку ее проявления незаметны, но с ней легче работать с помощью интерпретаций, если аналитик сохраняет свою внутреннюю свободу фантазировать о пациенте и не страдает от чрезмерных контртрансферентных реакций.
Пациенты с тяжелой патологией характера, которые пытаются бессознательно избежать невыносимой интрапсихической реальности с помощью проективной идентификации, направленной на аналитика, облегчают аналитику возможность обнаружения данного феномена, хотя и затрудняют его интерпретацию, поскольку для них на первом месте стоит ужас перед тем, что проецируется.
Приводимые ниже клинические виньетки иллюстрируют активацию проекции и проективной идентификации и их техническое ведение. Эти виньетки также показывают различные способы действия данных механизмов у невротических, нарциссических и пограничных пациентов.
Клинические иллюстрации
Гжа К., двадцати с небольшим лет, начала психоанализ, страдая от истерического расстройства личности, постоянного отсутствия оргазма при половых отношениях с мужем и романтической привязанности в фантазиях к недоступным мужчинам. Через несколько месяцев после начала лечения она высказала фантазию, что я очень чувственный, “распутный” и, видимо, пытаюсь вызвать у нее сексуальные чувства к себе, чтобы получить от нее сексуальное удовлетворение. Она сказала, что слышала, что я выходец из Латинской Америки и писал об эротических любовных отношениях. Более того, она думала, что у меня есть особые соблазняющие намерения по отношению к женщинам, работающим рядом с кабинетом, где я ее принимал. Она считала, что все это делает ее страхи оправданными. Она думала, что я особым образом глядел на нее, когда она входила в мой кабинет и, возможно, пытался угадать очертания ее тела под одеждой, когда она лежала на кушетке.
Гжа К. вначале не хотела говорить об этих страхах, но моя интерпретация, будто она боится, что я отвергну ее, если она открыто выразит свои фантазии обо мне, привела к постепенному раскрытию этого материала. В действительности ее поведение не было соблазнительным, наоборот, в нем было чтото заторможенное, ригидное, почти асексуальное, и в ее невербальных коммуникациях содержалось очень мало эротики. Мои собственные эмоциональные реакции на нее и фантазии о ней были слабо выражены и не содержали никакого сознательного эротического элемента; я пришел к выводу, что пациентка приписывает мне свои собственные вытесненные сексуальные фантазии и желания. Другими словами, этот типичный пример невротического переноса иллюстрирует действие проекции без активации материала контрпереноса (см. гл. 7).
Год спустя гжа К. существенно изменилась. Ее страх перед моим сексуальным интересом к ней привел к выражению отвращения по поводу сексуального интереса пожилых мужчин к молодым женщинам и к воспоминанию об отце как об отвратительном, распутном, пожилом мужчине, а затем к открытию, что ее романтические привязанности и фантазии были направлены на мужчин, которых она считала недоступными, и что она боялась сексуального возбуждения с таким прежде недоступным, но теперь потенциально доступным мужчиной. Ее понимание, что сексуальное возбуждение ассоциируется у нее с запретными сексуальными отношениями, постепенно привело к осознанию своих защит против сексуального возбуждения в отношениях со мной. Ее вытеснение и проекция сексуальных чувств в переносе уменьшились, и появились прямые эдиповы фантазии обо мне.
Однажды гжа К. вполне прямо высказала свою фантазию о романе со мной, включающем совместное тайное путешествие в Париж. Я почувствовал, что сексуально реагирую на пациентку, включая фантазию, что я, в свою очередь, мог бы получить удовольствие от сексуальных отношений с ней, особенно потому, что это означало бы нарушение всех общепринятых барьеров. Я, таким образом, сделал бы ей подарок: наиболее полное возможное признание ее особости и привлекательности. Другими словами, моя реакция была комплементарна ее желанию — это была реакция соблазняющего эдипова отца. Здесь уже не действовала ни проекция, ни проективная идентификация: сексуальные импульсы пациентки были эгосинтонны, она не предпринимала попыток контролировать меня, чтобы защитить себя от собственных сексуальных импульсов, и в ответ я мог сохранить эмпатию к ее центральному субъективному переживанию. И было уже не удивительно, что немного позже гжа К. разозлилась на то, что я не ответил на ее сексуальные чувства, и почувствовала, что я дразню и унижаю ее. Это привело нас к исследованию ее злости на своего дразнящесоблазняющего и отвергающего отца.
В этой невротической структуре личности преобладание коммуникации интрапсихического опыта вербальными средствами привело к активации комплементарной идентификации в трансферентных отношениях, относительно свободных от более примитивных защитных операций, в частности, проективной идентификации. Вытеснение и проекция были доминирующими защитами, в дополнение к другим типичным невротическим защитам, таким как интеллектуализация, реактивные образования и возражение.
Гжа Л., около тридцати лет, незамужняя, в отличие от гжи К., страдала от нарциссического расстройства личности с явно пограничным функционированием. У нее наблюдались периодические глубокие депрессивные эпизоды и суицидальные импульсы, которые уже привели к нескольким госпитализациям. Только что выписавшись из больницы, где я работал с ней стационарно, она продолжила психоаналитическую терапию со мной три раза в неделю. Гжа Л. была внешне привлекательной, хотя персонал больницы считал ее холодной, надменной и дистантной. Она колебалась между периодами, когда грандиозно и обесценивающе отвергала всех, кто пытался ей помочь, и периодами переживания чувства ничтожности и глубокого отчаяния.
У нее была длинная история хаотических отношений с мужчинами. Она увлекалась мужчинами, которыми восхищалась и которых считала недоступными, но ко всякому мужчине, проявляющему к ней интерес, она относилась с презрением. Она считала себя “свободной духом”, без какихлибо сексуальных ограничений; откровенно выражала свои сексуальные желания и потребности и поддерживала одновременные отношения с несколькими муж¬чинами.
Ее доминантная, контролирующая и назойливая мать, происходившая из бедной семьи, использовала свою очень привлекательную дочь с самого раннего ее детства как источник удовлетворения для себя и (как это казалось пациентке) не интересовалась ее внутренней жизнью, кроме тех случаев, когда это могло отразиться на ней как матери. Отец был преуспевающим бизнесменом, которого пациентка описывала как очень привлекательного и сексуально неразборчивого. Он скоропостижно умер от болезни, когда гжа Л. была подростком. Изза своих интенсивных занятий бизнесом и многочисленных романов он был практически недоступен для дочери.
Гжа Л. первоначально попросила меня о лечении, поскольку я был директором больницы. Но как только я стал ее психотерапевтом, ее первоначальное чувство триумфа сменилось сомнениями в том, хочет ли она продолжать лечиться у меня.
Следующий эпизод произошел через несколько недель после ее выписки из больницы. Она должна была возобновить занятия в аспирантуре, но испытывала сильные сомнения, продолжать ли терапию со мной в “маленьком городке”, где мы жили; это, говорила она, полностью подрывает ее мотивацию и интересы, поскольку городок ужасен, провинциален, скучен, там ужасный климат. СанФранциско и НьюЙорк — “два единственных города в стране, где можно жить”, и поэтому у нее возникает вопрос о непрочности моей профессиональной репутации, что выражается, с ее точки зрения, в том, что я остаюсь в таком маленьком городке.
Она пришла на сеанс, о котором я собираюсь рассказать, элегантно одетая. Она поведала мне о своем бывшем друге, ныне известном адвокате в СанФранциско, который приглашает ее жить с ним, и она серьезно обдумывает это приглашение. Гжа Л. продолжала, рассказывая, как смешон и непривлекателен в постели ее нынешний любовник; она думает, что бросит его. Он мил, но в нем нет тонкости и рафинированности, он сексуально неопытен и бедно одет. Затем она сказала, что мать спрашивала ее после первой встречи со мной, не будет ли для гжи Л. больше пользы, если она найдет более энергичного и твердого терапевта: я произвел на ее мать впечатление дружелюбного, но скромного и неуверенного в себе человека.
Я спросил, какие у нее есть мысли относительно комментариев ее матери, и она сказала, что ее мать очень нарушенная женщина, но одновременно очень умная и восприимчивая. Затем она извиняясь улыбнулась и сказала, что не хочет задевать мои чувства, но я действительно одет провинциально, и мне недостает спокойной, но твердой уверенности в себе, которую она так любит в мужчинах. Она также сказала, что, хотя я и дружелюбен, мне не хватает интеллектуальной глубины. Она выразила озабоченность, смогу ли я выносить ее искренность со мной. Она говорила в достаточно дружелюбном тоне, и мне потребовалось несколько минут, чтобы уловить нотки снисходительности, которые звучали в этом дружелюбии.
Гжа Л. заговорила о том, что планирует встретиться со своим другом в СанФранциско. Она рассматривала возможность того, что тот прилетит навестить ее здесь, и у нее были некоторые идеи, как сделать его остановку в городе приятным опытом “культурной антропологии” — т.е. опытом исследования культуры маленьких городков.
По мере того, как она говорила, я ощущал бессмысленность своих усилий и уныние. Мне приходили в голову мысли о многих терапевтах, которые прежде были у этой пациентки, и том одинаковом описании, которое они давали мне по поводу ее неспособности вступить в терапевтические отношения. Я думал, что она, видимо, не способна поддерживать терапевтические отношения со мной и что это начало конца ее терапии. Я чувствовал, что сдаюсь, и внезапно у меня возникла мысль, что мне трудно думать точно и глубоко, выражаясь как раз теми словами, которые употребила пациентка. Я также чувствовал себя физически неловко и прекрасно понимал того мужчину, которого гжа Л. только что уничтожила своими насмешливыми комментариями.